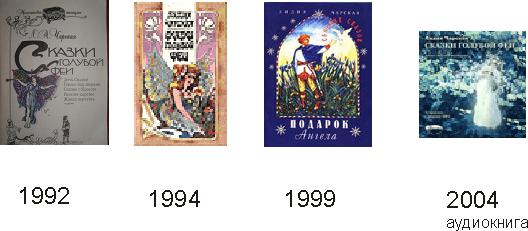Не могу не поделиться:
Давно делал пост об уличных ремеслах Парижа, www.diary.ru/~fortunat/p55289098.htm теперь посчастливилось найти подобную серию фотографий, посвященную Петербургу сто лет тому назад. В отличие от парижских эти фотографии постановочные, но типажи уличных торговцев реальные. На мой взгляд они не менее интересны, чем портреты генералов-царей или прекрасных кружевных дам.
Тексты для фотографий взяты из двух совершенно замечательных книг - для меня настоящих энциклопедий бытовой повседневной жизни Петербурга столетней давности.
Обе книги доступны в сети: Лев Успенский "Записки старого петербуржца" www.vbooks.ru/AUTHORS/USPENSKIY-LEV/014026.html...

Засосов Д.А., Пызин В.И. Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов: www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Zas/
Вот здесь есть несколько фотографий, но их нельзя скопировать, зато можно рассмотреть поближе - www.nationalgalleries.org/collection/online_az/...
Итак - скрытым текстом много фотографий и текста.

читать дальше
"На толкучке среди толпы ходили торговцы сбитнем. Сбитень - это теплая вода на патоке. Они носили на спине медный бак, обвязанный старым ватным одеялом, от бака шла длинная медная трубка с краном. По поясу- деревянная колодка с ячейками для стаканов. Здесь же ходили торговцы пирожками с жаровнями на животе, которые кричали: "С пылу с жару, пятачок за пару!"
Когда-то сбитень был весьма распространенным напитком на Руси. Пили его и холодным, и горячим в московских трактирах. По вкусу сбитень напоминает медовый напиток.
Помимо меда непременными составляющими его были зверобой. Шалфей, имбирь, корень валерианы и другие растения, очень полезный напиток был дешев, использовался как дома, так и в питейных, закусочных заведениях. Практически ни одна ярмарка, ни одно народное гулянье не обходились без сбитня. Первое письменное упоминание о нем относится к XII веку, а наиболее расхожее определение – «народное горячее питье с травами". Тут есть рецепты - некоторые вполне возможно приготовить сейчас: supercook.ru/russian/rus-51.html
А вот как выглядели сбитенщики:

Торговец пирожками:

Извозчики в чайной, зимние санки, типы извозчиков
www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Zas/03.ph...
"Зимой извозчики ездили в санках, очень маленьких и неудобных. Спинка была очень низенькая, задняя лошадь, идущая следом, роняла пену прямо на голову седока; хотя и существовало правило - держать дистанцию не менее двух сажен, но оно не соблюдалось. Поздно вечером и ночью извозчики особенно разбирались.
Извозчики жили обычно на извозчичьих дворах, где была страшная теснота: стойла крошечные, над ними сеновалы. Тут же рядом сложенные одна на другую пролетки или сани, смотря по времени года."




Уличные точильщики с "машинами". Вообще точильщик не менее важная персона ушедшего города, и загадочная, как и шарманщик, вспомните, в фильме "Не покидай" одним из судьбоносных, но довольно зловещих и горьких персонажей был уличный точильщик ножей, роль которого сыграл сам режиссер.
Есть очень недурная песня Олега Митяева "Соседка"
А вот из той же книги Льва Успенского:
- Точить ножи-ножницы! - слышалось во дворе, и я, уже несколько подросший, делал все, что от меня зависело, чтобы оказаться там и, замерев, смотреть - как это делается. На плече точильщик таскал с собой самый обычный точильный станок... "Обычный"? Я не согласен с таким определением. Это был почти в точности такой станок, да каком в сытинском издании "Робинзона Крузо" восхитительный герой повести правил и точил свой страховидный режущий инструмент. И я трепетал при одном его виде. Точильщик, придя, затыкал за всякие железки и жестянки, прибитые к раме станка, множество разных ножей, ножичков, ножищ, от огромных секачей и резаков из мясной лавки до всевозможных "мальчишецких" перочинных. В особом ящике у него лежали бритвы; не только электрических, но даже простых
"безопасных" бритв "Жиллетт" в те годы еще не знали, так что эти бритвы были обычными, "опасными", как сейчас у парикмахеров.
На горизонтальной оси точила были насажены разные круги - для точки, для правки, не знаю, для чего еще: розоватого камня и серого, шероховатые и гладкие. Из-под приложенного к быстро вращаемому ножным приводом кругу ножа сыпались кометным хвостом синие, оранжевые, красные искры. Камень свистел, сталь шипела тонким, змеиным шипом... Вытаращив глаза, я следил за этим
таинством...
Они никому не заговаривали зубы. У каждого из них за плечами было нечто совершенно ясное - ремесло, уменье, мастерство. Те были - пусть хоть вот эстолькими, да - купчиками; эти же - мастеровыми. У них, как у деревенских плотников, бондарей, кузнецов, были своя гордость, свои секреты, свое достоинство. С ними я мог найти общий язык; с теми - никогда.
Мне с ними было весело потому, что им нравилось, как мальчишка пялит глаза на работу: а еще - барчонок! Дашь такому дядьке ножик-складешок, и он его деловито похвалит или, наоборот, скажет, покачав головой: "Ну, паря, и нож у тебя! Таким только кашу-размазню перепиливать, да и то подогревши... Сходи ты, голубь, на Симбирскую улицу в скобяную лавку, купи себе там настоящий нож. Как войдешь, подойди к старику, скажи: "Петр Васильев, точильщик, прислал... Велел мне к вам идти!" Вот то будет нож! А этим твоим
отопком и гаманец в чижики играть не вырежешь!" Скажет - как отрежет, а не обидно: поговорили с тобой, как с человеком. Но есть у меня и еще одна причина любить точильщиков. Судьба свела меня с самым, вероятно, необыкновенным из них.
Каждый год, заблаговременно выхлопотав себе зимой заграничный паспорт, этот точильшик садился на поезд и ехал до которой-нибудь
из наших пограничных станций: сегодня - до Вержболова, в другой раз - до Волочиска. В багажном вагоне следовал за ним один предмет - точно такого же типа, как у дворовых точильщиков, но облегченной конструкции! - точильный станок.
У границы Устинов высаживался, получал свой багаж и переходил пограничную линию пешком, с этим станком за плечами. И все лето - он - путешествовал с ним по "Европам", забредая в этом году в Татры, в следующем доходя до Пиренеев, еще год спустя оказываясь либо
в Бретани, либо за Балканами. Он неспешно ходил там, "точа ножи-ножницы", и не только ничего не затрачивал на такую "заграницу", но, напротив того, привозил домой некоторый заработок - во франках, лирах, гульденах и тому подобном.
"Вот, Лева, когда эта несчастная война кончится, и вы вздумаете посмотреть белый свет, - послушайте меня. Не ездите по заграницам в экспрессах, не живите в тамошних отелях... Добудьте себе что-нибудь вроде моего станка, переваливайте рубеж... За один год вы увидите и узнаете больше, чем все эти "экспрессники", вместе взятые..."


Торговец решетами "сито-сито, сито-решето!"

Городовой с номерной бляхой. Вот здесь : отрывки из устава городовых, весьма занимательное чтение: users.livejournal.com/felix___/74278.html

Водоносы. Как правило в домах не было водопровода, и за деньги воду из Невы или Мойки-Фонтанки (которая тогда была на порядок чище) носили водоносы по "етажам". Работа, надо сказать, была собачья - тяжелая, опасная болезнями и низкооплачиваемая.


Торговец баранками и бубликами (кстати, в Турции их до сих пор много на улицах):

Татарин, "князь", торговец халатами и коврами:
Когда наша няня или кухарка Альвина вдруг при разборке своих сундуков обнаруживали там чрезмерное множество всякого старья, они начинали особенно чутко прислушиваться к возгласам и распевам тех, кому "вход во двор" строго воспрещался. Рано или поздно в форточку доносилось долгожданное: "Халат-халат!" Или няня, или Альвина выглядывали в окно. Среди двора стоял человек, которого нельзя было спутать ни с кем другим: реденькая бородка, на голове серая или черная шапочка-тюбетейка, на плечах - стеганый халат не мышиного, а более темного, так сказать крысиного, цвета. Сомнений не оставалось: это и был "халат-халат". Он смотрел в окна. На руке у него был переброшен пустой мешок. Положение обещало оказаться благоприятным. - Эй, князь! - доносилось сверху. "Князь" безошибочно определял, из какой квартиры его позвали, и спустя самое короткое время кухонный звонок - не электрический, как на парадной, а простой колокольчик, подвешенный на тугой пружине, - осторожно звонил. Дела, которые здесь затевались, не должны были касаться "господ". Им не для чего было знать о таких визитах. Татарин опорожнял прямо на пол свой мешок, если в нем уже что-то было. Продавщицы вытаскивали из потайных скрынь своих какой-нибудь ношеный-переношеный плюшевый жакет, древнюю юбку, ветхую шаль времен очаковских. Одна высокая сторона называла цену - скажем, рупь двадцать. Другая - "Ай, шайтан-баба, совсем ум терял!" - давала четвертак. Татарин сердито собирал в мешок свое барахло, показывая намерение уйти и никогда не приближаться к дому, где живут такие "акылсыз" - сумасшедшие женщины. Няня гневно кидала свои тряпки в "саквояж", звенела замком сундука. Но "князь" не уходил. Мешок снова развязывался, сундук опять отпирался. И он давал уже сорок копеек, а Альвина требовала восемь гривен. И летели на
каком-то славяно-тюркском "воляпюке" самые яростные присловья и приговорки - из-за них-то старшие и возражали против моих посещений кухни. " (Лев Успенский "записки старого петербуржца)

маляры:


Трактирные половые (ярославцы - их так называли, потому что лучшие "половые" чего изволите-с" были выходцами из Ярославской Губернии) в краткий "перерыв" пьют чай

Трубочисты. В нашем доме сохранились трубы - есть трубы и у дома близнеца с мансардами напротив, мама говорила, что газ в наш дом провели только в 1949 году, до этого была печка. Над трубами иногда в морозные дни курится белый дымок - призрак прошлых кухонных дымов. Дядя Лужков, не выгоняй нас из этого дома еще пару лет, старик простоит еще лет сто, его даже немецкие бомбы не взяли, а где ты потом в Москве увидишь как дышит старый дом :


Полотеры.


Торговец картошкой и ягодами:

уличные музыканты:

Продавцы дров с трубочками и без:



продавец корзин:

Разносчик посылок из дома в дом - без почты - от адреса до адреса передавали:

Лудильщик и торговец скобяным товаром
Снова Успенский:
Спиной к саду, посреди булыги, стоит чернобородый мужик с мешком (мне уже шесть; мешком меня теперь не испугаешь!) за плечами. На шее у него подвешены на веревочках большой медный чайник, два сотейника, кастрюлька красной меди, что-то еще. Он стоит и, задрав бороду, пытливо всматривается поочередно в окна по всем четырем этажам. Потом мечтательно прикрывает глаза, как певец на сцене. - Пая-ать-луди-ить, а? - как птица, все на тот же, высоковатый по его бородище и плечам, мотив запевает он. - Паять-лудить? - чуть более требовательным тоном: что же, мол, вы там, заснули все? Никто не отзывается, никто не выглядывает в окна. Я - не считаюсь.
Подумав, он пускает для проверки более сильное заклинание: - Посуду медну... паять-лудить?! Никакого впечатления. Нагнувшись, он поднимает с земли второй чайник -ведерный, трактирный или артельный, - встряхивается - и медяшки его гремят, - поправляет мешок за спиной и уходит... Не скажу почему, мне становится как-то грустновато... Может быть, жалко бородача: кричал-кричал! Я хочу слезть со стула, но это мне не удается...

Торговец дегтем:

Торговец яблоками:

Молочницы (те самые знаменитые "охтенки" с саночками и коромыслами: "Ух-ты, ох-ты, девки с Охты"


Ученики портного:

Прачка:

Мусорщик:
Лев Успенский:
От времени до времени во дворах, появлялся, как тень, полуторговец, полубосяк - странная фигура в долгополом рваном пальто (или в каком-то брезентовом полуплаще), - небритый, обросший, до предела грязный и засаленный, с таким же сомнительным, кое-как заплатанным, грязным мешком за плечами. Он возникал внезапно, как привидение. Он вдруг появлялся из тени, и, казалось, как уэллсовский морлок, стремился как можно скорее снова нырнуть во мрак. Возникнув во дворе, он останавливался, не удаляясь от подворотни, и
спрашивал глухо, еле слышно, как бы боясь, что его услышат, и желая этого: - Купить-продать?
Что купить? Что угодно, хоть душу человеческую, хоть старую подметку, лишь бы по сходной цене. Что продать? Да вот хотя бы узел зловонных лохмотьев, приобретенный в соседнем дворе и скрываемый в мешке за спиною. А может быть, пару выброшенных на помойку, разношенных вдребезги валенок. Или - ночной горшок с отбитой эмалью... Или - позеленевший примус, если он вам нужен... Не все ли равно что? "Купить-продать?!"
Сколько раз у меня почему-то падало сердце, когда до меня доносился в детстве этот негромкий вызов-вопрос: "Купить-продать?!" Сколько раз случалось мне видеть полубродягу этого ("Костей, тряпок, бутылок, банок" выглядел английским лордом рядом с ним), когда он, войдя во двор с ухватками пуганого зверя, сначала, как и все, осматривал вопросительно этаж за этажом, потом, воровато оглянувшись, проскальзывал за садик, к помойкам.. Как киплинговская крыса Чучундра, но смеющая выбежать на середину комнаты, он быстро приоткрывал уравновешенные грубыми противовесами скрипучие крышки... Кошки прыскали от него в сторону - похож на кошатника! А он либо мгновенно выхватывал железным прутком из ямы что-то невнятное и молниеносным движением отправлял в мешок, либо так же торопливо захлопывал крышку и стушевывался без добычи... Было что-то лемурье, что-то особенно жуткое, скользкое в этих серых
фигурах. Недаром они сегодня, шестьдесят лет спустя, представляются мне воплощением того мира, в котором я начинал свой жизненный путь. Я думаю о них и о нем, и на меня начинает веять из прошлого тяжкой, приторной гнилью свалки, скрипом смрадных люков на помойках задних дворов... И, как из бездны, доносится сквозь туман времени жадный, горький, бессильный и яростный полукрик, полушепот, полулозунг:
"Купить-продать?!"

фонарщики с обычными атрибутами - склянкой с керосином и лестницей:
Лев Успенский:
Пониже стеклянного "скворечника" на столбе была перекладина. В сумеречные часы позднего ноября или снежного декабря всюду на окраинах можно было видеть пропахших керосином фонарщиков. С коротенькой легкой лесенкой на плече, с сумкой, где был уложен кое-какой аварийный запас - несколько стекол, моток фитиля - фонарщик стремглав несся вдоль уличных сугробов, неустанно перебегая наискось от фонаря на четной к фонарю на нечетной стороне: расставлены фонари были в шахматном порядке.
Вот он у очередного столба. Лесенка брошена крючьями на перекладину, человек взлетает на ее ступеньки. Хрупкая дверка откинута, стекло привычным жестом снято... Спичка... Ветер - спичка гаснет, но это бывает редко. Каждый жест на счету, на счету и коробки со спичками. Огонь загорелся, стекло надето, дверца захлопнута... Две, три ступеньки. Лестница на плече, и - по хрустящему, размолотому тяжкими полозьями ломовых извозчиков, перемешанному с конским навозом снегу, по диагонали - к следующему



продавец тачек, судя по размеру для детских игр или мелких работ на даче:

Продавец домашних туфель:

торговка бельевыми корзинами:

Нищий крестьянин "ходок в город"

Торговка "голландской" сельдью
"Татарам, Тряпичнекам и протчим крикунам
вход во двор строга воспрещаетца!"
А они - входили. И сколько их было разных. И на сколько различных голосов, напевов, размеров и ритмов возглашали они во всех пропахших сложной смесью из кошачьей сырости и жареного кофе дворах свои откровения торговых глашатаев.
Приходила картинная - Елена Данько лет через пятнадцать охотно вылепила бы такую фарфоровую статуэтку - крепкая, бойкая в такой мере, что с ей подобными и старшие дворники остерегались сцепляться, похожая, как я теперь понимаю, на лесковскую "Воительницу" женщина; крепко становилась посередь двора на аккуратно обутых в добрые полусапожки основательных ногах
и запевала:
- Сельди галанские, сельди; сельди, се-е-льди!
В ладной кацавеечке, в теплом платке, с румяным - немолодым, но все еще как яблоко свежим - лицом, она стояла спокойно и с достоинством. На ее левом плече уютно лежало деревянное коромыслице с подвешенными к нему двумя тоже деревянными кадочками - небольшими аккуратными, в хозяйку, с плотно пригнанными крышками. Третья кадочка, поменьше, - с любительским посолом -в руке.
Быстрые глаза так и бегают от окна к окну, рисованный пухлый рот вкусно шевелится. И вот уже открылась первая форточка, и через зеленый продырявленный дощатый ящик-ларь, в каких хранили тогда вместо нынешних холодильников провизию (слова "продукты" никто и не слыхивал), перевешивается чья-то голова. И кадочки поставлены на мостовую, и кто-то сбегает - или неспешно сходит - по черной лестнице; и хлопает наружная дверь, и начинается торг:
- Марья Гавриловна, что давно не заходила?
- Ах, милая ты моя ягодиночка, виноградинка ты моя золоченая, говела, бабынька, говела... Так уж и решилась: дело богово, посижу дома! Торговля-то наша - сущий грех...
Трудно даже припомнить их всех подряд, служителей этого тогдашнего надомного сервиса - столько их было и по таким различным линиям они работали. Среди них имелись представители совершенно друг на друга непохожих индустрии.

Торговки мелочным съестным товаром (пышки с обрезью, шанежки)

Бродяга
"Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов" : www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Zas/06.ph...
Для лиц, не имевших действительно "где голову приклонить", в столице существовали ночлежные дома. Мы познакомились с одним из них. Вот его предыстория: по Забалканскому проспекту сразу за городскими бойнями до Новодевичьего монастыря (с правой, нечетной стороны улицы) была громадная свалка. Сюда вывозили навоз, мелкие отбросы и пр. Она занимала громадную территорию и называлась "горячим полем" 5, потому что отбросы прели, разлагаясь, курились, над полем стоял туман, зловонный и густой. Бездомные, опустившиеся люди, ворье, которому надо было скрываться, строили себе здесь шалашики, точнее, норы, в которых ночевали, подстилая под себя рваные матрасы и разное тряпье. От разложения отбросов там было тепло. Полиция делала обходы "горячего поля", разоряла их норы, арестовывала тех, кто не имел паспорта или был в чем-нибудь замешан. В санитарных целях летом, в сухую погоду, эти свалки зажигались.
Принимаемые меры борьбы с обитателями "горячего поля" не давали результатов, и тогда городская дума решила построить в этом районе ночлежный дом 6. Здесь за 5 копеек предоставлялось место для ночлега на нарах с подстилкой и сенной подушкой. За эти же деньги давался кипяток. К вечеру у ночлежки собиралась очередь без-{76}домных, плохо одетых бедняков. В ночлежке соблюдалась известного рода санитария: помещения выметались, мылись и дезинфицировались. Администрация и прислуга обращались с ночлежниками грубо: окрики, ругательства, толчки были обычным явлением. Нарушителей порядка выталкивали, спускали с лестницы. Некоторые приживались около ночлежек, кололи и носили дрова, убирали помещение, оказывали разные услуги служащим ночлежного дома. Такие люди пользовались некоторыми привилегиями: с них не взыскивали плату, они получали лучшие места, могли оставаться в ночлежке и днем, тогда как всех рано утром выгоняли и пускали только вечером. Ночевать в таком доме было неспокойно: частые посещения полиции, которая бесцеремонно расталкивала спящих, разыскивая какого-нибудь налетчика, вора.
Типичным приживальщиком на Забалканском был Мишка Косоротый: пожилой, тихий, очень болезненный человек, частично разбитый параличом. Он был услужлив, все время извинялся, боясь, что ему могут отказать в последнем пристанище. На служащих ночлежки он смотрел со страхом и умоляюще. Все его третировали, помыкали им, смеялись над ним, его прозвищем Косоротый, издеваясь над его физическим недостатком.

Булочник:

Военный цирюльник, бесплатно либо за самую низкую плату стрижет и бреет солдат и городовых:

газетчик:

дворник:
www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Zas/04.ph...
Остановим свое внимание на тружениках дома - дворниках. У Тарасовых было два старших дворника и около 30 младших, обслуживавших все домохозяйство. Старшие дворники подбирали из родни или земляков себе подручных - младших дворников, здоровых, нестарых крестьян, которых деревня выбрасывала в город на заработки. В большинстве это были неграмотные или малограмотные люди, от них требовались большая сила, трудолюбие, чистоплотность и честность. Жили они по дворницким, обыкновенно без семей, своего рода артелью. Харчи им готовила "матка", жена старшего дворника. Старшие дворники получали по 40 рублей, младшие - по 18-20 рублей. Старшие дворники были начальством, они не работали, а распоряжались и наблюдали за работой дворников. Был такой старший дворник Григорий, толстый рыжий детина, большая умница, получивший среди жильцов прозвище "министр". Каждое его слово было дельно, он умел правильно обходиться с подчиненными, дворники его уважали и боялись. Порядок на его участке был образцовый. Дворники с утра до вечера убирали улицы, {50} дворы, лестницы, разносили дрова по квартирам (в домах Тарасовых центрального отопления, ванн и лифтов не было). Особенно доставалось этим труженикам зимой при снегопадах: надо было скребками вычистить все панели, посыпать их песком, сгрести в кучи снег с улиц и дворов, на лошади отвезти снег в снеготаялку. Во дворе были две бетонные ямы, куда поступала из бань отработанная теплая вода, в них ссыпали снег, он таял, вода уходила в канализацию. Летом дворникам было легче, они по очереди могли уезжать в деревню: кто на пахоту, кто на сенокос, кто на уборку. Жалованье им шло, артель выполняла работу и за них. Кроме своего жалованья они получали чаевые за услуги жильцам: выколачивали ковры, завязывали и выносили вещи при отъезде жильцов на дачи, носили корзины с бельем на чердаки. Жили они очень экономно, копили деньги для деревни, где у них оставались семьи. Доход у них был также от "поздравлений" с Новым годом, с Пасхой; они знали, кто когда именинник, и обходили жильцов, проживающих по отведенной каждому лестнице. За такие поздравления им не только давали на чай, но и угощали водочкой и закуской. Многие из них старались одеться по-городскому, завести хромовые сапоги, пиджак, жилетку, гарусный шарф.

Кормилицы. Это обычно были здоровые деревенские молодые женщины, кормившие грудью детей в богатых семьях, их по традиции одевали в нарочитом "старорусском" стиле, "кормилочка" часто потом становилась няней:


"Всемирная косморама"
взято отсюда: dob.1september.ru/2004/03/11.htm
Перечисляя ярмарочные развлечения, нельзя не упомянуть о потешной панораме, или космораме, которую в народе называли кратко «Раёк».
Малая переносная панорама представляла собой «небольшой аршинный во все стороны ящик», расписанный яркими красками, который мог быть украшен фигурами, флажками или даже флюгером с надписью «Всемирная косморама». Он переносился на ремне его владельцем и устанавливался на складные козлы. Ящик побольше перевозили на двухколесной тележке. На передней стенке панорамного ящика было обычно два круглых окошка с увеличительными стеклами, через которые можно было рассматривать различные картинки (бывали панорамы и с 3—4 окошками). Демонстрируемые картинки или панорамы были нарисованы на длинной ленте (полосе), которая перематывалась внутри ящика с одного валика («катка») на другой. В более усовершенствованных панорамных ящиках картинки на картоне вставлялись в рамки, которые подвешивались на шнурках и по очереди опускались и поднимались, сменяя друг друга по ходу объяснения панорамщика (раешника).
Как считают исследователи, слово «раёк» произошло от «райского действа». Так называлась одна из серий картинок потешной панорамы. Эти картинки изображали библейские сцены из жизни в раю самых первых людей — Адама и Евы.
В дальнейшем иллюстрации к Библии оказались не столь популярными, как, например, сюжеты к народным былинам или картины из жизни различных городов мира. Поэтому панорамщик, или раешник, большей частью призывал публику поглядеть на подвиги Ильи Муромца, Алеши Поповича и Добрыни Никитича или на похождения Бовы Королевича и Еруслана Лазаревича. Бывали панорамы с историческими сценами, такими, как «Войны с Наполеоном», «Крымская война», или с эпизодами русско-турецкой войны. Интересны для разглядывания могли быть виды Константинополя, Парижа, Рима или Ватикана. Встречались также сцены из городской жизни Санкт-Петербурга и Москвы.
Показ панорам и картинок всегда сопровождался пояснением раешника-балагура. Все его тексты обычно представляли собой рифмованную прозу, произносились громко, скороговоркой и всерьез. Внешний облик раешника и его манера общения с публикой были во многом схожи с балаганными дедами-зазывалами.
А вот и прибаутки косморамщиков (больше - здесь: www.booksite.ru/fulltext/nar/odn/iyt/12.htm
Подходите, подходите,
Да только карманы берегите
И глаза протрите!..
А вот и я, развеселый потешник,
Известный столичный раешник,
Со своею потешною панорамою:
Картинки верчу-поворачиваю,
Публику обморачиваю,
Себе пятачки заколачиваю!..
А вот, извольте видеть, город Рим,
Дворец Ватикан,
Всем дворцам великан!..
А живет в нем римский папа,
Загребистая лапа!..
А вот город Париж,
Как туда приедешь —
Тотчас угоришь!..
Наша именитая знать
Ездит туда денежки мотать:
Туда-то едет с полным золота мешком,
А оттуда возвращается без сапог пешком!"

Крестьянские типажи. Их гнала в город нужда. Либо они находили мелкие разовые заработки, либо опускались и гибли.





кухонная девушка (младшая кухарка или судомойка)

Пожарный (а вот здесь история Пушкина и пожарного - не менее занимательная: users.livejournal.com/felix___/180091.html

продавец певчих птиц:

продавец спичек (мальчик-со-спичками)

Разносчик и слуга, пробующий гребень:

Торговец мороженой рыбой:

Шарманщик:
во двор уже входит, перекошенный на один бок тяжестью своего ящикообразного инструмента, худой, смуглый, впалогрудый шарманщик.
Такой же тощий и черномазый мальчишка несет за ним клетку с ободранным зеленым попугаем, ящичек, в котором плотно уложены, как в картотеке, картонные билетики - "счастье", маленький вытертый коврик... Старший упирает в булыжник деревянный костыль шарманки, утверждает перед нею на раскладной табуреточке клетку и переполненный "счастьем" ящик... Мальчишка уже разостлал поодаль трепаный, грязнее каменной мостовой, коврик. Свой картуз с переломленным козырьком он положил, как чашку, тут же
около, на панели...
Ах, этот нудный, гнусавый, за сердце хватающий присвист, которым начинались все мелодии тогдашних разбитых шарманок! Почему ты помнишься столько лет, столько десятилетий? Ах, этот мрачный, жутковатый, униженный и ненавидящий взгляд сине-белых, то ли цыганских, то ли итальянских, глаз на коричневом лице - ты и сейчас стоишь передо мною. И эта мятая, бутылочно-зеленого плюша артистическая шляпа, шляпа нищеты, шляпа горечи, шляпа тысяч несчастий и миллионов терзаний - сколько я видел в детстве
таких трагических шляп...
Зззззачем ты, безззумная, губишь
Таво, кто увлекся тобой?
Неужели меня ты не любишь?
Не любишь, так бог же с тобой!
Это не поется, это только играется... Одна чахоточная, пошлая, скудная, как этот дворик, мелодия без слов... И все же это - не медная посуда. Это - искусство. Оно доходит. Уже из подворотни - озираясь, где дворник? - заглядывают во двор девчонки и парнишки с соседних дворов.
Может быть, они таскаются за шарманкой из дома в дом уже с самого Нейшлотского? Вошли и замерли у стен.
У церкви стояла карета,
Там пышная свадьба была...
Уже наши собственные дворницкие и швейцарские дети - счастливцы! - подбираются, шаг за шагом, к самому попугаю (девочки), окружают коврик (мальчуганы). И одно за другим распахиваются окна. И высовываются "дворовые", не "фасадные" головы - кухарок, горничных, приживалок... И вот уже летит на землю первый, завернутый в бумажку, алтын... И незавернутый пятак падает и катится к ногам музыканта... Еще, еще, опять... И какая-то с косичкой, но уже похихикивающая по-взрослому, фыркая в рукав, покупает себе "счастье". И сердитый, нахохленный попугай, недовольно покрякивая и покрикивая что-то не по-русски, ловко зацепив его клювом,
вытаскивает из туго спрессованной пачки один билетик. И девчонка, прочтя, хватает себя ладонью за все лицо: "Ой, мама родная..."
Шарманщики часто были итальянцами и немцами.

Ну не смогла мимо пройти...
@темы: текст, фотографии, история, иллюстрации, не мое, а жаль