
disk.yandex.ru/d/c_IjzZGf4lhANg часть первая. Продолжение будет.





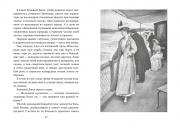
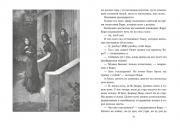








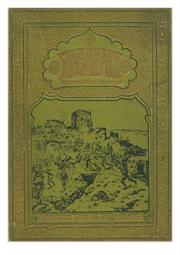

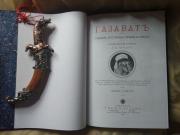



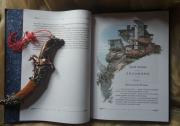

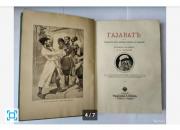
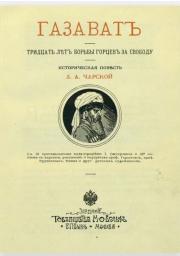
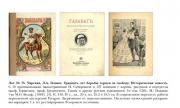
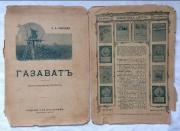

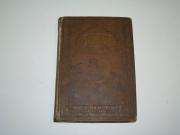

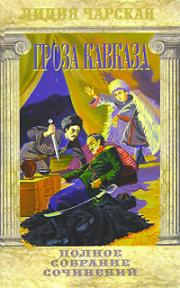
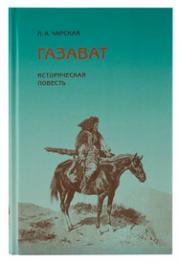
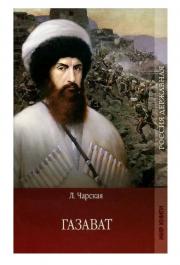





 Это рассказы из дореволюционных детских журналов: сентиментальный о маленькой девочке и просто милый о котенке.
Это рассказы из дореволюционных детских журналов: сентиментальный о маленькой девочке и просто милый о котенке.









 преимущественно взрослых, но в конце будет и немного детского.
преимущественно взрослых, но в конце будет и немного детского.






