Это грустно, потому что там много чего интересного.
Кстати, никто не знает как с этим бороться?
Но есть список тем, и по ним можно попасть почти на любое сообщение.
www.diary.ru/~charskaya/?tags
И не забывайте про ссылки в эпиграфе.
UPD.
Заработало!

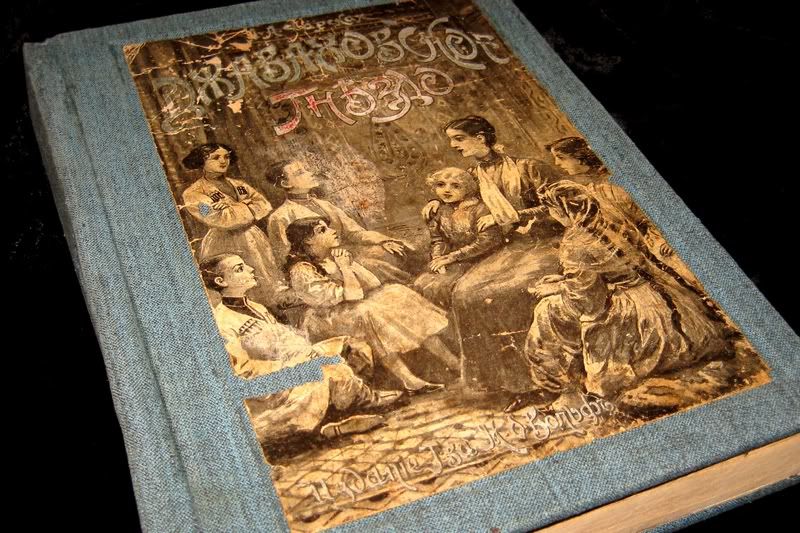


 .Нет их в журнале.
.Нет их в журнале. 

 это "Вторая Нина" издания 90-х. Первое - родная картинка, читать дальше
это "Вторая Нина" издания 90-х. Первое - родная картинка, читать дальше Ура! Защитила на "отлично с отличием с направлением в аспирантуру" ) Чему сама очень удивилась. Члены комиссии прониклись беззаконием "Русской миссии" и все прошло на "ура". В связи с чем хотела бы высказать огромное спасибо всему сообществу в целом, и, конечно, отдельное спасибо Наталье! Без вас я бы его не написала. Если будет интересно, потом смогу выложить текст диплома. Сразу оговорюсь, это не литературоведческое исследование, а редакторский обзор всех изданий Чарской и редакторский анализ ПСС.
Ура! Защитила на "отлично с отличием с направлением в аспирантуру" ) Чему сама очень удивилась. Члены комиссии прониклись беззаконием "Русской миссии" и все прошло на "ура". В связи с чем хотела бы высказать огромное спасибо всему сообществу в целом, и, конечно, отдельное спасибо Наталье! Без вас я бы его не написала. Если будет интересно, потом смогу выложить текст диплома. Сразу оговорюсь, это не литературоведческое исследование, а редакторский обзор всех изданий Чарской и редакторский анализ ПСС. Ее не успели допечатать - но к счастью и текст оригинала существует и современные переводчики есть
Ее не успели допечатать - но к счастью и текст оригинала существует и современные переводчики есть 