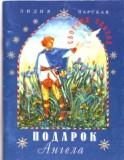Сюжетостроение книги сказок Лидии Чарской
(Из монографии Александры Матвеевой «Лидия Чарская. Стиль сказочной прозы»).
Окончание
читать дальшеРассматривая внутреннюю форму книги Лидии Чарской «Сказки голубой феи», важно подчеркнуть и своеобразие образа повествователя. Уже в названии отражается источник происхождения сказок – «Сказки голубой феи» – это, в первую очередь, фейные сказки, неземные. «В человеческой душе, – пишет К.Д. Бальмонт, – два начала: чувство меры и чувство внемерного, чувство безмерного318. Лидия Чарская, воспринимавшая мир сквози призму романтической эстетики, рассчитывает на такое двоемирие в душе читателя. И поэтому ее сказки – это истории, «продиктованные девочкой не от мира сего, это сказки невидимого мира, недоступные земному человеку»319.
«Не птичка, не мотылек это, а веселая крошечная голубая девочка. У нее серебристые крылышки за спиною и кудри, легкие, как пух. Я знаю ее – это фея голубого воздуха и весеннего неба, фея золотого солнца и майского праздника».
Понимание в литературоведении образа повествователя как некоего посредника между изображенным и слушателем позволяет характеризовать рассказчицу-фею как своеобразный мостик между миром сказочным, волшебным и реальным, точнее реальным детским. Лидия Чарская с помощью художественных средств передоверяет повествование сказочной волшебнице:
«…ты знаешь сказки людские, а я тебе расскажу те, что выдумал старый лес и шаловливая речка и золотое солнце прислало к нам сюда с весенними лучами».
Подчеркнем, что современник Лидии Чарской Вяч. Иванов считает художника «завсегдатаем волшебного мира»320. Безусловно, такой рассказчик не только интересен и приятен ребенку, но и близок по мироощущению и, следовательно, понятен маленькому читателю. Образ феи-рассказчицы не только интересен и приятен ребенку, но и близок по мироощущению и, следовательно понятен маленькому читателю. Образ феи-рассказчицы своей внутренней формой образует «сказочный» и, одновременно, игрушечный микромир, являет то, что на детском языке называется «понарошку» (фантазия, которая реальна в данный момент).
Образ рассказчицы-волшебницы явлен и в стихотворении Лидии Чарской «Уснула»:
«<…> Не старая няня ей сказку твердит
Любимую, милую сказку, –
То шепчет гвоздика, и нежно дарит
Свою ароматную ласку;
То птичка на жердочке тонких ветвей
Поет свою песенку нежно…
И грезится сладко малютке моей,
И спится ей так безмятежно…
Ей снятся такие чудесные сны
Под веяньем майской погоды,
Торжественно-радостный праздник весны
На лоне весенней природы
Ей снится: цветы, наклонившись кругом,
Зовут ее в царство растений.
И спит моя крошка младенческим сном,
Без всяких забот и волнений».
Создание образа феи-рассказчицы позволяет Лидии Чарской вводить нравственно-дидактический компонент без излишнего морализаторства, позволяет открывать ребенку нравственные истины без подавления свободного творческого начала. Именно эту черты Чарской-педагога подчеркивает Ф.К. Сологуб в своей статье (1926) о детской писательнице: «Дети, как и взрослые, любят смешное, но Чарская пришла к нам не для того, чтобы забавлять их, не затем, чтобы их поучать… Чарская заговорила с ними как с совершенно равными и равноценными ей людьми, заговорила очень серьезно и очень убежденно о людях, событиях…, обратилась к их совести и самопознанию»321. Воплощенная Лидией Чарской в книге «Сказки голубой феи» идея рассказчика-посредника между миром сказочным и реальным с ярко выраженной художественно-педагогической доминантой берет свое начало в сказочной традиции, положенной французским писателем Шарлем Перро и его книгой «Сказки моей матушки Гусыни», или Истории, или Сказки былых времен, с моральными наставлениями» (1697). В рамках этой художественной традиции, когда в названии заложен образ повествователя, влияющий в целом на внутреннюю форму произведения, а в частности, на тон повествования, на образный строй и его проблематику, создают свои произведения и такие художники слова как Х.К. Андерсен («Сказки солнечного луча»), В.Ф. Одоевский (Сказки и рассказы дедушки Иренея), Н.П. Вагнер («Сказки Кота-мурлыки»), С.Ф. Либрович («Искры добра. Рассказы для детей Дяди- Ворчуна»).
Примером того, как изменяется внутренняя форма художественного произведения, служит книга Лидии Чарской «Подарок Ангела»322 (1999). В ее основу положены пять сказок из книги «Сказки голубой феи» – «Галина правда», «Чудесная перчатка», «Капризная принцесса», «Два брата», «Подарок Ангела», имеющие редакторскую обработку современного детского православного писателя И.А. Литвака. Незначительные поправки, внесенные издательством в текстовую ткань произведений, повлекли за собой изменение всей внутренней формы книги, что уже отразилось в ее названии: «Сказки голубой феи» – «Подарок Ангела». Название меняет и тип рассказчика. В свою очередь, общий тон повествования трансформируется от волшебно-сказочного к сакральному, поэтому и главная мысль повествования , аккумулировавшаяся в названии, изменяется. Так, если в первом случае это сказки, то во втором – это произведения, как бы «подаренные» Ангелом, существом духовным, бестелесным, приносящим вести323 от Бога человеку. Следовательно, образ повествователя в «Подарке Ангела» раскрывает идею Торжества Православия как главную идею книги, которая существенно отличается от основной мысли «Сказок голубой феи» с романтической доминантой- - утверждать вечные человеческие ценности, одновременно являющиеся христианскими добродетелями.
Образ Ангела характерен и для поэзии Лидии Чарской, написавшей стихотворный цикл «Ангелы-Хранители», в котором стихотворение «БЕЛЫЙ АНГЕЛ» (1904) воплощает образ молитвы:
«Но в груди неясная тревога
И смятенья трепетного жар…
Белый ангел был посланник Бога
И принес ей вдохновенья дар…»,
А стихотворение «МОЛИТВА» – образ ангела, весьма симптоматичный и для анализа книги «Подарок Ангела»:
«Возьми мои руки в пречистые руки,
Веди меня, ангел-хранитель святой
Туда, где нет горя, страданий и муки,
Туда, где царит величавый покой.
Крылом твоим белым укрой меня, светлый,
Кудрями коснись молодого чела,
Веди меня в мир тот желанный, заветный,
Куда не проникнет житейская мгла,
Где светлые духи Творца прославляют
Где дивные райские песни поют,
Где темные мысли, как призраки, тают,
Где светлые думы, как грезы, встают».
Образ рассказчика в этой книге, кажется, продиктован другим стихотворением – «АНГЕЛ У ПОСТЕЛИ РЕБЕНКА» (1905):
«Ночь… Тишина… У киота
Тихо лампада сияет…
Светлый и радостный кто-то
Детский покой охраняет.
<…>
Вея крылом белоснежным
В милые сонные глазки,
Голосом тихим и нежным
Шепчет он дивные сказки…
Сказки книги «Подарок Ангела» объединяет между собой мотив поиска истины и обретение ее в конечном итоге. Это может быть и обретение христианских добродетелей (любовь к ближнему, нестяжательность, жертвенность и пр.), может быть и преодоление тяжелых испытаний, и получение помощи от Сил Небесных, и даже обретение Царствия Божия. С первых же строк начальной сказки («Галина правда») в книге чувствуется иной тон рассказчика, нежели в «Сказках голубой феи», более строгий и одухотворенный. Сравним:
Сказки голубой феи»
«Давно это было. Зеленели вишневые садочки, нежная травка чуть пробивалась из земли, весенние фиалки синели в лесной чаще. Все радовалось, все ликовало, а в Галиной хатке печаль, слезы. Плакала Галя…
<…>
…Говори всегда правду, и будет у тебя всегда светло на сердце и ясно на душе!.. А теперь прощай».
«Подарок Ангела»
«Жила-была на свете девочка. Звали ее Галя. Рано осталась она сиротой, и досталась ей от мамы в наследство одно единственное сокровище – правда. «Говори всегда только правду, дочка, – сказала ей мама, – и будет у тебя на сердце всегда светло и ясно…».
Повествователь говорит другим языком, по существу, нежели его прообраз в книге с западноевропейской доминантной. Здесь мы не встретим такого обилия эпитетов ,как это было в «фейной книге», более того меняется и семантический строй метафор, используемых автором в тексте:
«Внезапно послышалась дивная музыка» («Галина правда» - «Сказки голубой феи»)
«Внезапно послышалась нежная музыка» («Галина правда» - «Подарок Ангела»),
так и в названиях самих сказок: «Живая перчатка» на «Чудесная перчатка».
Образный строй сказок, сюжетообразующие детали – все это в новом прочтении обретает черты восточно-христианской символики. Например:
«Сказки голубой феи» – «Подарок Ангела» («Галина правда»)
«…прекрасные белые существа, мальчики и девочки с серебряными крылышками за спиною» – «…прекрасные белые существа, с серебряными крыльями»
«старая Мааб» – «святая старица Мариам»
«Живая перчатка» ( «Сказки голубой феи») – «Чудесная перчатка» («Подарок Ангела»)
«король Серебряная Борода» – «царь Серебряная Борода»
«Подарок феи» – «Подарок Ангела»
«… белая женщина, вся словно сотканная из солнечных лучей. Дивно светится лицо, ее стан, одежда… – «…сияющий ангел, весь словно сотканный из солнечных лучей»
– Я добрая фея, волшебница Рада…» – нет
Но не только насыщенность христианскими символами (белая голубка в «Подарке Ангела», чудесная звездочка из «Капризной принцессы», райский сад из «Галиной правды» и пр.) и образами (старица Мариам, ангел, два брата (указание на ветхозаветное предание) в одноименной сказке и т.д.) привлекает читателя. Для человека верующего важным является еще и некая законченность мысли, подаваемой автором в Великие дни, и возникшее побуждение уподобиться героям, победившим свои страсти, и желание взглянуть внутрь себя, в свои душевные и (что важнее) в духовные сферы. Так, Галя, пройдя сквозь испытания и не найдя правду на земле, обрела Царствие Небесное, где и узнала Истину; Свирепый Рыцарь одержал главную победу своей жизни – победил свои пагубные страсти; принцесса Изольда изменила своим прихотям и встала на тесный и благодатный путь; Герцог Лео кротостью и смирением преобразил своего зобного брата и наконец, читатель вместе с царем Серебряной бородой узнает, что лучшей дочерью может быть только та, которая подобна Богородице.
Таким образом, в книге сказок Лидии Чарской «Подарок Ангела» сконцентрирована одна из жизнеутверждающих идей восточного христианства, столь необходимая и ищущей эпохе серебряного века, и современной, также рубежной, эпохе, идея Торжества Православия. С Лидией Чарской солидарен и Д.Р. Толкин, который также посредством сказочной формы внушает христианские идеи. Он пишет «…мир фантазий» человека «действительно помогает расцвету и многократному обогащению реального мироздания. Все сказки могут воплотиться в жизнь, но в конце в концов, пройдя очищение, они могут оказаться похожими и непохожими на созданные нами формы, точно так же как сам Человек, спасенный во веки веков, будет похож и не похож на падшее существо, знакомое нам»324. Эта идея выражена Лидией Чарской лирически открыто и одновременно в русле отечественной художественной традиции: в стихотворении «ХРИСТОС ВОСКРЕС!» (1903):
« «Христос воскрес!» поет природа,
Шумит река и шепчет лес;
Им вторит звучный крик народа:
«Христос воистину воскрес!»…» .
Говоря о метасюжете книги «Сказок голубой феи», отметим, что мифологический образ феи воплощает в себе одновременно и образ главной героини книги – рассказчицы, и образ волшебницы-помощницы в отдельных произведениях. Первое проявляет себя не только во «Вступлении» книги, но и на протяжении всего повествования. Автор, используя прием рамочной композиции, возвращает читателя из художественного пространства сказки в повествовательное пространство рассказчицы – автора – слушателя. Так, например ,в начале сказки «Волшебный оби» автор сообщает ее источник:
«Я слышала эту сказку от старого седого орла… Я запомнила сказку старого седого орла и от слова до слова передам ее вам»;
то же повторяет он и в конце повествования:
«Эту сказку я слышала от старого седого орла…»
Такую функцию выполняет и фрагмент беседы между писательницей и волшебницей-сказочницей в сказке «Чудесная звездочка»:
«Что же дальше? Разве сказка уже окончена? – спросила я голубую фею, которая рассказала мне про принцессу Эзольду».
Итак, образ главной героини книги – фея, воплощает в себе такой тип повествователя-волшебницы, который близок и понятен маленькому читателю, что способствует, в свою очередь, созданию оригинальной внутренней формы книги «Сказки голубой феи». Очевидность этого факта подтверждается своеобразной внутренней формой другой книги Лидии Чарской – «Подарок Ангела», в которой меняется тип рассказчика, а вслед за ним и общий тон повествования, но при этом не отменяется, а лишь варьируется ее доминантный смысл.
318Бальмонт К. Избранное. – М. 1990
319Минералова И.Г. Лидия Чарская – сказочница. – с. 122
320Иванов Вяч. О границах искусства//Иванов Вяч. Родное и вселенское./Сост., вступ. Ст. и прим. В.М.Толмачева. – М., 1994 – с. 215
321 Сологуб Ф.К. Статья о Лидии Чарской // ИРЛИ. Архив Ф.К. Сологуба (Тетерникова), ф. 289, оп. 1, ед. хр. 571.
322Здесь и далее цитаты указаны по изданию: Чарская Л.А. Подарок Ангела. – М., 1999
323«Это слово (ангел) на Греческом и Еврейском языке значит: вестник»//Библейская Энциклопедия. – с. 47
324Толкин Д.Р. Указ.соч. – с. 292
(Из монографии Александры Матвеевой «Лидия Чарская. Стиль сказочной прозы»).
Окончание
читать дальшеРассматривая внутреннюю форму книги Лидии Чарской «Сказки голубой феи», важно подчеркнуть и своеобразие образа повествователя. Уже в названии отражается источник происхождения сказок – «Сказки голубой феи» – это, в первую очередь, фейные сказки, неземные. «В человеческой душе, – пишет К.Д. Бальмонт, – два начала: чувство меры и чувство внемерного, чувство безмерного318. Лидия Чарская, воспринимавшая мир сквози призму романтической эстетики, рассчитывает на такое двоемирие в душе читателя. И поэтому ее сказки – это истории, «продиктованные девочкой не от мира сего, это сказки невидимого мира, недоступные земному человеку»319.
«Не птичка, не мотылек это, а веселая крошечная голубая девочка. У нее серебристые крылышки за спиною и кудри, легкие, как пух. Я знаю ее – это фея голубого воздуха и весеннего неба, фея золотого солнца и майского праздника».
Понимание в литературоведении образа повествователя как некоего посредника между изображенным и слушателем позволяет характеризовать рассказчицу-фею как своеобразный мостик между миром сказочным, волшебным и реальным, точнее реальным детским. Лидия Чарская с помощью художественных средств передоверяет повествование сказочной волшебнице:
«…ты знаешь сказки людские, а я тебе расскажу те, что выдумал старый лес и шаловливая речка и золотое солнце прислало к нам сюда с весенними лучами».
Подчеркнем, что современник Лидии Чарской Вяч. Иванов считает художника «завсегдатаем волшебного мира»320. Безусловно, такой рассказчик не только интересен и приятен ребенку, но и близок по мироощущению и, следовательно, понятен маленькому читателю. Образ феи-рассказчицы не только интересен и приятен ребенку, но и близок по мироощущению и, следовательно понятен маленькому читателю. Образ феи-рассказчицы своей внутренней формой образует «сказочный» и, одновременно, игрушечный микромир, являет то, что на детском языке называется «понарошку» (фантазия, которая реальна в данный момент).
Образ рассказчицы-волшебницы явлен и в стихотворении Лидии Чарской «Уснула»:
«<…> Не старая няня ей сказку твердит
Любимую, милую сказку, –
То шепчет гвоздика, и нежно дарит
Свою ароматную ласку;
То птичка на жердочке тонких ветвей
Поет свою песенку нежно…
И грезится сладко малютке моей,
И спится ей так безмятежно…
Ей снятся такие чудесные сны
Под веяньем майской погоды,
Торжественно-радостный праздник весны
На лоне весенней природы
Ей снится: цветы, наклонившись кругом,
Зовут ее в царство растений.
И спит моя крошка младенческим сном,
Без всяких забот и волнений».
Создание образа феи-рассказчицы позволяет Лидии Чарской вводить нравственно-дидактический компонент без излишнего морализаторства, позволяет открывать ребенку нравственные истины без подавления свободного творческого начала. Именно эту черты Чарской-педагога подчеркивает Ф.К. Сологуб в своей статье (1926) о детской писательнице: «Дети, как и взрослые, любят смешное, но Чарская пришла к нам не для того, чтобы забавлять их, не затем, чтобы их поучать… Чарская заговорила с ними как с совершенно равными и равноценными ей людьми, заговорила очень серьезно и очень убежденно о людях, событиях…, обратилась к их совести и самопознанию»321. Воплощенная Лидией Чарской в книге «Сказки голубой феи» идея рассказчика-посредника между миром сказочным и реальным с ярко выраженной художественно-педагогической доминантой берет свое начало в сказочной традиции, положенной французским писателем Шарлем Перро и его книгой «Сказки моей матушки Гусыни», или Истории, или Сказки былых времен, с моральными наставлениями» (1697). В рамках этой художественной традиции, когда в названии заложен образ повествователя, влияющий в целом на внутреннюю форму произведения, а в частности, на тон повествования, на образный строй и его проблематику, создают свои произведения и такие художники слова как Х.К. Андерсен («Сказки солнечного луча»), В.Ф. Одоевский (Сказки и рассказы дедушки Иренея), Н.П. Вагнер («Сказки Кота-мурлыки»), С.Ф. Либрович («Искры добра. Рассказы для детей Дяди- Ворчуна»).
Примером того, как изменяется внутренняя форма художественного произведения, служит книга Лидии Чарской «Подарок Ангела»322 (1999). В ее основу положены пять сказок из книги «Сказки голубой феи» – «Галина правда», «Чудесная перчатка», «Капризная принцесса», «Два брата», «Подарок Ангела», имеющие редакторскую обработку современного детского православного писателя И.А. Литвака. Незначительные поправки, внесенные издательством в текстовую ткань произведений, повлекли за собой изменение всей внутренней формы книги, что уже отразилось в ее названии: «Сказки голубой феи» – «Подарок Ангела». Название меняет и тип рассказчика. В свою очередь, общий тон повествования трансформируется от волшебно-сказочного к сакральному, поэтому и главная мысль повествования , аккумулировавшаяся в названии, изменяется. Так, если в первом случае это сказки, то во втором – это произведения, как бы «подаренные» Ангелом, существом духовным, бестелесным, приносящим вести323 от Бога человеку. Следовательно, образ повествователя в «Подарке Ангела» раскрывает идею Торжества Православия как главную идею книги, которая существенно отличается от основной мысли «Сказок голубой феи» с романтической доминантой- - утверждать вечные человеческие ценности, одновременно являющиеся христианскими добродетелями.
Образ Ангела характерен и для поэзии Лидии Чарской, написавшей стихотворный цикл «Ангелы-Хранители», в котором стихотворение «БЕЛЫЙ АНГЕЛ» (1904) воплощает образ молитвы:
«Но в груди неясная тревога
И смятенья трепетного жар…
Белый ангел был посланник Бога
И принес ей вдохновенья дар…»,
А стихотворение «МОЛИТВА» – образ ангела, весьма симптоматичный и для анализа книги «Подарок Ангела»:
«Возьми мои руки в пречистые руки,
Веди меня, ангел-хранитель святой
Туда, где нет горя, страданий и муки,
Туда, где царит величавый покой.
Крылом твоим белым укрой меня, светлый,
Кудрями коснись молодого чела,
Веди меня в мир тот желанный, заветный,
Куда не проникнет житейская мгла,
Где светлые духи Творца прославляют
Где дивные райские песни поют,
Где темные мысли, как призраки, тают,
Где светлые думы, как грезы, встают».
Образ рассказчика в этой книге, кажется, продиктован другим стихотворением – «АНГЕЛ У ПОСТЕЛИ РЕБЕНКА» (1905):
«Ночь… Тишина… У киота
Тихо лампада сияет…
Светлый и радостный кто-то
Детский покой охраняет.
<…>
Вея крылом белоснежным
В милые сонные глазки,
Голосом тихим и нежным
Шепчет он дивные сказки…
Сказки книги «Подарок Ангела» объединяет между собой мотив поиска истины и обретение ее в конечном итоге. Это может быть и обретение христианских добродетелей (любовь к ближнему, нестяжательность, жертвенность и пр.), может быть и преодоление тяжелых испытаний, и получение помощи от Сил Небесных, и даже обретение Царствия Божия. С первых же строк начальной сказки («Галина правда») в книге чувствуется иной тон рассказчика, нежели в «Сказках голубой феи», более строгий и одухотворенный. Сравним:
Сказки голубой феи»
«Давно это было. Зеленели вишневые садочки, нежная травка чуть пробивалась из земли, весенние фиалки синели в лесной чаще. Все радовалось, все ликовало, а в Галиной хатке печаль, слезы. Плакала Галя…
<…>
…Говори всегда правду, и будет у тебя всегда светло на сердце и ясно на душе!.. А теперь прощай».
«Подарок Ангела»
«Жила-была на свете девочка. Звали ее Галя. Рано осталась она сиротой, и досталась ей от мамы в наследство одно единственное сокровище – правда. «Говори всегда только правду, дочка, – сказала ей мама, – и будет у тебя на сердце всегда светло и ясно…».
Повествователь говорит другим языком, по существу, нежели его прообраз в книге с западноевропейской доминантной. Здесь мы не встретим такого обилия эпитетов ,как это было в «фейной книге», более того меняется и семантический строй метафор, используемых автором в тексте:
«Внезапно послышалась дивная музыка» («Галина правда» - «Сказки голубой феи»)
«Внезапно послышалась нежная музыка» («Галина правда» - «Подарок Ангела»),
так и в названиях самих сказок: «Живая перчатка» на «Чудесная перчатка».
Образный строй сказок, сюжетообразующие детали – все это в новом прочтении обретает черты восточно-христианской символики. Например:
«Сказки голубой феи» – «Подарок Ангела» («Галина правда»)
«…прекрасные белые существа, мальчики и девочки с серебряными крылышками за спиною» – «…прекрасные белые существа, с серебряными крыльями»
«старая Мааб» – «святая старица Мариам»
«Живая перчатка» ( «Сказки голубой феи») – «Чудесная перчатка» («Подарок Ангела»)
«король Серебряная Борода» – «царь Серебряная Борода»
«Подарок феи» – «Подарок Ангела»
«… белая женщина, вся словно сотканная из солнечных лучей. Дивно светится лицо, ее стан, одежда… – «…сияющий ангел, весь словно сотканный из солнечных лучей»
– Я добрая фея, волшебница Рада…» – нет
Но не только насыщенность христианскими символами (белая голубка в «Подарке Ангела», чудесная звездочка из «Капризной принцессы», райский сад из «Галиной правды» и пр.) и образами (старица Мариам, ангел, два брата (указание на ветхозаветное предание) в одноименной сказке и т.д.) привлекает читателя. Для человека верующего важным является еще и некая законченность мысли, подаваемой автором в Великие дни, и возникшее побуждение уподобиться героям, победившим свои страсти, и желание взглянуть внутрь себя, в свои душевные и (что важнее) в духовные сферы. Так, Галя, пройдя сквозь испытания и не найдя правду на земле, обрела Царствие Небесное, где и узнала Истину; Свирепый Рыцарь одержал главную победу своей жизни – победил свои пагубные страсти; принцесса Изольда изменила своим прихотям и встала на тесный и благодатный путь; Герцог Лео кротостью и смирением преобразил своего зобного брата и наконец, читатель вместе с царем Серебряной бородой узнает, что лучшей дочерью может быть только та, которая подобна Богородице.
Таким образом, в книге сказок Лидии Чарской «Подарок Ангела» сконцентрирована одна из жизнеутверждающих идей восточного христианства, столь необходимая и ищущей эпохе серебряного века, и современной, также рубежной, эпохе, идея Торжества Православия. С Лидией Чарской солидарен и Д.Р. Толкин, который также посредством сказочной формы внушает христианские идеи. Он пишет «…мир фантазий» человека «действительно помогает расцвету и многократному обогащению реального мироздания. Все сказки могут воплотиться в жизнь, но в конце в концов, пройдя очищение, они могут оказаться похожими и непохожими на созданные нами формы, точно так же как сам Человек, спасенный во веки веков, будет похож и не похож на падшее существо, знакомое нам»324. Эта идея выражена Лидией Чарской лирически открыто и одновременно в русле отечественной художественной традиции: в стихотворении «ХРИСТОС ВОСКРЕС!» (1903):
« «Христос воскрес!» поет природа,
Шумит река и шепчет лес;
Им вторит звучный крик народа:
«Христос воистину воскрес!»…» .
Говоря о метасюжете книги «Сказок голубой феи», отметим, что мифологический образ феи воплощает в себе одновременно и образ главной героини книги – рассказчицы, и образ волшебницы-помощницы в отдельных произведениях. Первое проявляет себя не только во «Вступлении» книги, но и на протяжении всего повествования. Автор, используя прием рамочной композиции, возвращает читателя из художественного пространства сказки в повествовательное пространство рассказчицы – автора – слушателя. Так, например ,в начале сказки «Волшебный оби» автор сообщает ее источник:
«Я слышала эту сказку от старого седого орла… Я запомнила сказку старого седого орла и от слова до слова передам ее вам»;
то же повторяет он и в конце повествования:
«Эту сказку я слышала от старого седого орла…»
Такую функцию выполняет и фрагмент беседы между писательницей и волшебницей-сказочницей в сказке «Чудесная звездочка»:
«Что же дальше? Разве сказка уже окончена? – спросила я голубую фею, которая рассказала мне про принцессу Эзольду».
Итак, образ главной героини книги – фея, воплощает в себе такой тип повествователя-волшебницы, который близок и понятен маленькому читателю, что способствует, в свою очередь, созданию оригинальной внутренней формы книги «Сказки голубой феи». Очевидность этого факта подтверждается своеобразной внутренней формой другой книги Лидии Чарской – «Подарок Ангела», в которой меняется тип рассказчика, а вслед за ним и общий тон повествования, но при этом не отменяется, а лишь варьируется ее доминантный смысл.
318Бальмонт К. Избранное. – М. 1990
319Минералова И.Г. Лидия Чарская – сказочница. – с. 122
320Иванов Вяч. О границах искусства//Иванов Вяч. Родное и вселенское./Сост., вступ. Ст. и прим. В.М.Толмачева. – М., 1994 – с. 215
321 Сологуб Ф.К. Статья о Лидии Чарской // ИРЛИ. Архив Ф.К. Сологуба (Тетерникова), ф. 289, оп. 1, ед. хр. 571.
322Здесь и далее цитаты указаны по изданию: Чарская Л.А. Подарок Ангела. – М., 1999
323«Это слово (ангел) на Греческом и Еврейском языке значит: вестник»//Библейская Энциклопедия. – с. 47
324Толкин Д.Р. Указ.соч. – с. 292