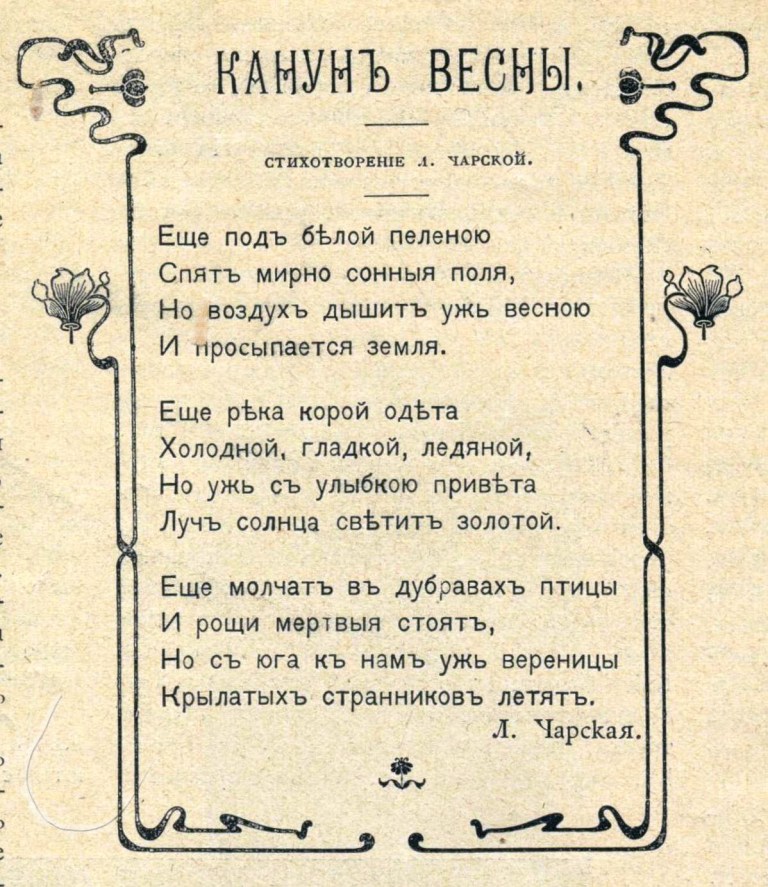- Держите ее, mesdames, держите! Не пускайте, не пускайте! Я должна намылить ее хорошенько за то, что она...
- Ай... ай... Не смей меня трогать, Манька, - визжит в свою очередь Таня, - не позволяйте ей трогать меня, mesdames. Это не я ей мешок сделала, это Зюнгейка».
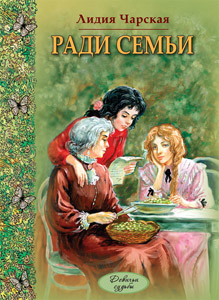
И хочу спросить в целом, понимаете ли вы все жаргонные словечки и выражения прошлого и позапрошлого веков у гимназистов, институток и проч.? Например, в одном из томов Полного собрания сочинений Л.Ч. от «Русской миссии» («Гимназисты», повесть для юношества) некоторые подобные слова изменены, а некоторые вообще убраны, так как, возможно, были не поняты читающим редактором.
Кстати, это две статьи на тему.
Из сборника «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.
ЛИТЕРАТУРА И ФОРМИРУЮЩАЯСЯ
ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ»
Белоусов А. Ф.
АНАТОМИЯ УСПЕХА ИНСТИТУТСКИХ ПОВЕСТЕЙ
ЛИДИИ ЧАРСКОЙ: ИНСТИТУТКА КАК ТИП ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ
читать дальшеОсенью 1901 года на страницах журнала «Задушевное слово» начала печа-
таться повесть Лидии Чарской «Записки институтки». Эта повесть имела боль-
шой успех. Имя ее автора становится широко известным в детской аудитории.
Между тем «Записки институтки» были отнюдь не первой повестью, пос-
вященной жизни воспитанниц женского института. Юные читатели конца
ХIХ – начала ХХ вв. могли познакомиться с ней по книгам, которые как раз в
это время широко распространялись в детской аудитории. Опубликованный
еще в 1887 г. роман Елизаветы Кондрашовой «Дети Солнцевых», где описы-
вался тот же самый Павловский институт, в котором писательница воспиты-
валась в сороковые годы ХIХ в., в 1899 г. появился в адаптированном для де-
тей издании и под названием «Юность Кати и Вари Солнцевых» несколько
раз переиздавался в начале ХХ в. Гораздо быстрее дошли до детей «Девочки»
Надежды Лухмановой: такое название получили ее беллетризованные вос-
поминания «Двадцать лет назад. (Из институтской жизни)», печатавшиеся в
1893 г. на страницах журнала «Русское богатство». Женская школа закрытого
типа изображалась и в книге весьма популярной тогда английской писатель-
ницы Л. Т. Мид «Девичий мирок», переведенной у нас в 1900 г. Однако ни
одна из этих книг не пользовалась таким успехом, как «Записки институтки»
Лидии Чарской.
Ее успеху не мешала даже очевидная ориентация писательницы на про-
изведения своих предшественниц. Это относится и к изображению институт-
ской жизни с точки зрения самой воспитанницы, что характерно для авторов,
стоявших на стороне институток в их борьбе с учебноQвоспитательным пер-
соналом. Особенной четкостью авторской позицией отличались «Девочки»
Лухмановой. Влияние этой повести вообще очень заметно в «Записках инс-
титутки». Отсюда, например, заимствуются характеры героинь и сюжетные
коллизии институтской жизни. Даже смерть княжны Ниночки Джаваха на-
поминает соответствующий эпизод повести Лухмановой.
Отличие «Записок институтки» от «Девочек» Лухмановой заключается в
том, что повесть Чарской не является бытописательной литературой. Изоб-
раженный в ней институт не похож на тот, который окончила Лидия Чарс-
кая. Второразрядный институт преображается в училище для генеральских
дочерей, где воспитывается даже шведская аристократка, владеющая собс-
твенным замком под Стокгольмом. Обычные привидения, будоражившие по
ночам воображение маленьких воспитанниц любого института, дополняется
здесь еще и «тенями» монахинь, место которых было в Смольном монастыре,
а не в здании, специально построенном для Павловского института в середи-
не ХIХ в. Вырисовывая на первом плане романтических героинь и расцве-
чивая яркими красками серый фон институтских будней, Чарская реализует
мечту институток о другой, необыкновенной жизни, которую поддерживали
институтские «фантазерки», помогавшие подругам мечтать о будущем, «вы-
водя затейливые узоры на канве этих бедняжек, бедных фантазией, но жаж-
давших романтических картин в их будущем»1. Об институтских основах и
навыках Чарской напоминает и эмоциональность ее повести. «Записки ин-
ститутки» мало чем отличаются от дневников воспитанниц женских инсти-
тутов, где господствует тот же мелодраматизм содержания и та же вычурная,
экспрессивная манера письма.
Объясняя свой успех, Лидия Чарская однажды сказала: «Я сохранила
детскую душу и свежесть детских впечатлений. И еще – я люблю, искренно
люблю детство, сохранила «любовь святую к заветам юности»2. Это и при-
влекало к ней юных читателей, ощущавших глубокое внутреннее родство с
любимой писательницей. Особую же приверженность к Чарской проявляли
дети 13–14 лет, что очень существенно в связи с смешением в ее словах «де-
тства» и «заветов юности». Ведь этот возраст является одним из важнейших
переломных моментов в развитии человека. Лидия Чарская сохранила в себе
не просто «детскую душу», но – душу ребенка, который становится подрост-
ком.
Институткам приходилось переживать этот момент в условиях закры-
того учебного заведения. Они замедляли взросление воспитанниц. Вместе с
тем воспитание в женском обществе акцентировало зарождавшиеся в жен-
ском обществе душевные переживания и придавало им вполне определен-
ную окраску. Для выражения их заимствовались самые экспрессивные из
известных институткам форм поведения и стилистические клише, аффекти-
рованная чувствительность, которая резко выделяла выпущенных в свет ин-
ституток на фоне окружающего общества и была отмечена им как типично
институтская черта, отражает уровень развития воспитанниц женских инс-
титутов, вступавших во взрослую жизнь с душой и культурными навыками
девочки-подростка.
Одной из отличительных особенностей образа институтки в русской
культуре является экспрессивность, эмоциональная насы щенность институт-
ской речи. Это свойственно уже первой институтке, изображенной на русской
сцене. Героиня комедии Алексея Копиева «Обращенный мизантроп, или Ле-
бедянская ярмонка» (1794 г.) не только пишет, но и говорит «ни по-русски, ни
по-французски»: чуть ли не одними восклицаниями, то и дело «айкая», упот-
ребляя бессмыслен ные, хотя и весьма эмоциональные гиперболы (например,
«префатальной») и т. п. Междометие «ай» некогда было столь характерной
приметой речи смолянок-«монастырок», что Василию Капнисту пришлось
заменять его на «ах», когда цензура потребовала убрать из «Ябеды» все, что
относилось к «монастырскому» прошлому героини комедии. Впоследствии,
правда, и «ах» стало отмечаться как «институтское» слово (ср.: «одни уж
эти «ах, ах!»» – среди «институтских странностей» в романе Закревской3).
1 Лаврентьева С. И. Пережитое. (Из воспоминаний). СПб., 1914. С. 28.
2 См.: Русаков В. <Либрович С. Ф.> За что дети любят Чарскую. СПб.; М., 1913. С. 18.
3 См.: Закревская С. Институтка: Роман в письмах // Отеч. зап. 1841. 112. С. 230. См.эпиграф к одной из частей повести Владимира Соллогуба «Боль шой свет»: «Ах, ma chere, какая она жантильная!» (Институтский Словарь)» (Соллогуб В. А. Повести. Воспоминания. Л., 1988. С. 96), а также речь жандармской полковницы из «Заметок неизвестного» Лескова, которая «по институтской привычке все часто восклицала: «ах»» (Лесков Н. С. Собр.соч.: В 11-ти т. М., 1958. Т. 7. С. 340).
Оно, конечно, не является изобретением самих институток (как, впрочем,
и междометие «ай») – институтское словотворчество ограничи валось, судя
по всему, лишь наименованием специфических явлений окру жающей жизни
(«парфетки», «мовешки», «кофульки» / «кофушки» – воспитан ницы млад-
шего «возраста»(класса), и «синявки» – классные дамы, назва нные так по
цвету своихплатьев и др.). Однако междометия употребля лись институтка-
ми гораздо чаще, чем это дозволялось светскими прили чиями, что и предо-
пределило их роль в институтском «словаре», который использовался в ху-
дожественной литературе. Это же относится и к пере даче институтской речи
с помощью таких средств, как восклицательные предложения, словесные вы-
сказывания с определительными местоимениями «какой» (ср.: «какая она
жантильная!») и «такой» (например, выделен ное курсивом – как и прочие
институтские выражения – словосочетание «такие добрые» в «Монастырке»
Антония Погорельского1), которые выражают или усиливают эмоциональ-
ную оценку тех или иных человеческих качеств, словообразования, обозна-
чающие высшую степень этих качеств («префатальной», «предобрый» и др.),
и, наконец, слова, обладающие яркой эмоциональной окраской (вроде «инс-
титутского словечка» – «противный»2). Акцентируется эмоциональность ин-
ститутской речи.
Эмоция, лежавшая в основе институтской речи, отнюдь не исчерпывается
одним лишь «восторгом». Восторженность, которая особенно про являлась в
редких ситуациях общения с внешним миром (когда многое поражало вооб-
ражение институток своей необычностью – ср.: «от всего приходят в восторг:
от кружева, от платья, от серег; даже просили показать ботинки»3) и часто,
действительно, преобладавшая в настроении институток, вступавших в но-
вую для себя взрослую жизнь (почему она прежде всего и бросалась в гла-
за окружающим, видевшим в ней специфическую особенность институтского
характера4), легко сменялась прямо противоположным ей состоянием раз-
дражения и озлобленности. «Бранный» лексикон занимает видное место в
институтском «языке»5. «Ангел», «божество» и «прелесть» перемежаются
«дрянью», «ведьмой» и «уродом»; «божественный» и «обворожительный»
уживаются с «гадким» и «противным»; за «обожать» следует «презирать» и
т. д. Эмоциональная подоплека институтской речи по-детски проста и опре-
деленна: или восторг, или отвращение.
1 См.: Погорельский А. Избранное. С. 166,168,170.
2 «Вот ты и институт миновала, – говорит отец дочери в повести Эртеля «Волхонская барышня», – а приобрела это институтское словечко: «противный». – А ты забываешь, – отвечаетдочь, – что у нас «дамы» были из института!» (Эртель А. И. Волхонская барышня. Смена. Карьера Струкова. М.;Л., 1959. C. 18).
3 Гончаров И. А. Собр. соч.: В 8-ми т. М., 1979. Т. 5. С. 27.
4 Ср. определение «институтски-восторженно» – о женском крике в бунинском «Суходоле» (Бунин И. А. Собр. соч.: В 9-ти т. M., 1965. Т. 3. C. 139).
5 Если его использовали в общении с посторонними, то это вызывало резко негативную реакцию, так как противоречило ходячему представлению об институтках: «И это называется институтское воспитание!» – говорит мать дочери, которая бранит ее «ведьмой» в пьесе Леонида Андреева «Дни нашей жизни» (Андреев Л. Н. Драматические произведения: В 2-х т. Л., 1989. Т. 2. С. 42).
Институтская речь вообще во многом идет от детского языка. Весьма
показательным является обилие уменьшительных форм: «душечки», «меда-
мочки», «милочки», «амишки» и т. п. Эти «нежноQинститутские названия»1
использовались не только в обращении институток между собой, но и слу-
жили обозначением для членов своего узкого, дружеского круга или же все-
го «возрастного» (классного) сообщества. Отсюда – бытование таких оксю-
моронных на первый взгляд «бранных» формул, как «душечка поганая» или
«бессовестная душечка»2. Вместе с тем подобные формулы оттеняют эмоцио-
нальный фон коллективного быта институток, где детская речь являлась нор-
мой непринужденной и зачастую бесцеремонной фамильярности в общении
между воспитанницами. С официальным языком женских институ тов, кото-
рым чаще всего был французский язык, сосуществовал (и обога щался за его
счет) своеобразный «девический» вариант русского моло дежного жаргона –
язык, употреблявшийся в неофициальном обиходе институток3. Он представ-
ляет собой один из основных элементов культур ной традиции, которая быто-
вала и передавалась «из рода в род» среди воспитанниц женских институтов.
Литературное творчество Лидии Чарской, в сущности, определяется фор-
мулой заглавия ее первой повести. Это свойственно не только ее произведе-
ниям на институтскую тему, но и всем остальным, даже когда Чарская писала
для взрослой аудитории. Хотя и здесь находились ценители ее творчества,
основной контингент поклонников писательницы составляли, конечно, дети
и подростки. Лидия Чарская воспринималась ими как«своя» писательница.
Ее положение в этой среде можно сравнить с положением институтской рас-
сказчицы, которая выделялась среди подруг только тем, что умела рассказы-
вать занимательные истории. Она представляет собой культурно-психологич
еский тип «институтки»4, что в полной мере отразилось и в ее литературном
творчестве.
1 Крестовский В. <Хвощинская Н. Д.> Недописанная тетрадь // Отеч. зап. 1859. №12. С. 479.
2 См.: Р. Ф. Воспоминания институтки шестидесятых годов // Рус. ста рина. 1909. №9. С. 490; №10. С. 170.
3 Этот «жаргон» сохранялся в речевом поведении институток, становившихся классными дамами, что в свою очередь влияло на «язык» их воспитанниц (см. в этой связи очерк Салтыкова-Щедрина «Полковницкая дочь» – Щедрин Н. (Салтыков М. Е.). Собр. соч.: В 12-ти т. М., 1951. Т. 11. С. 327–339). Ср. речь «старой девы»-воспитательницы в романе Шеллера-Михайлова «Лес рубят – щепки летят» (Шеллер-Михайлов А. К. Лес рубят – щепки летят. M., 1984. C. 135–137, 149, 153 и др.)
4 См.: Белоусов А.Ф. Институтка // Институтки: Воспоминания воспитанниц институтов благородных девиц. М., 2001. С.5–32.
Балашова Л. В.
Саратовский госуниверситет
ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ ШКОЛЬНИКА: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ
АСПЕКТ (НА МАТЕРИАЛЕ МЕТАФОРИЧЕСКИХ НОМИНАЦИЙ В
УЧЕНИЧЕСКОМ ЖАРГОНЕ XIX И XX ВВ.)
читать дальше
Проблемы, связанные с языковой личностью, становятся предметом при-
стального анализа лишь во второй половине ХХ века, хотя уже М. М. Бахтин
отмечал: «Язык выводится из потребности человека выразить себя, объекти-
вировать себя. Сущность языка в той или иной форме, тем или иным путем
сводится к духовному творчеству индивидуума» (Бахтин 1979: 245). Именно
этому исследователю принадлежит мысль и о единстве социального и инди-
видуального в речи. С одной стороны, «речь может существовать в действи-
тельности только в форме конкретных высказываний отдельных говорящих
людей, субъектов речи. Речь всегда отлита в форму высказывания, принадле-
жащего определенному речевому субъекту, и вне этой формы существовать
не может» (Бахтин 1979: 249). С другой стороны, в речевом общении содер-
жится момент внутренней социальности, объективно закрепленный в «типи-
ческих формах высказываний» (Там же: 240).
В настоящее время творческое развитие этих идей можно обнаружить
в многоаспектном исследовании речи индивида – в психолингвистике, со-
циолингвистике, этнолингвистике, лингвокультурологии, что обусловле-
но единым антропоцентрическим подходом к языку (см., например, работы
Ю. Н. Караулова, В. М. Алпатова, Н. Е. Сулименко, В. Д. Черняка, Ю. Д. Ап-
ресяна, Л. Ф. Бойцана, А. Даша).
Основополагающими работами в этой области стали труды академика
Ю. Н. Караулова, который и ввел понятие «языковая личность». Под этим
термином исследователь понимает «совокупность способностей и характе-
ристик человека, обусловливающих создание им речевых произведений (тек-
стов)» (Караулов 1987: 3).
Конечная цель изучения языковой личности – получить конкретно науч-
ное знание о том, как в процессе своей деятельности индивиды строят образ
мира – мира, в котором они живут, действуют, который они сами переделы-
вают и частично создают; это знание также о том, как функционирует образ
мира, опосредуя их деятельность в объективно реальном мире» (Леонтьев
1997: 3).
Однако достижение поставленной цели может вестись в разных аспек-
тах, частности, – в статическом и в динамическом. А в данной работе мы при-
держиваемся первого аспекта, который подразумевает понимание языковой
личности как «субъекта социальных отношений, обладающего своим непов-
торимым набором личностных качеств. Очевидно, что для определенных си-
туаций важны только некоторые характеристики личности, связанные, на-
пример, с выполнением определенной социальной роли» (Карасик 2002: 8).
Рассмотрение языковой личности в когнитивном и лингвокультурологи-
ческом аспекте выдвигает на первый план исследование модели языковой лич-
ности. Это связано с тем, что человек как носитель языкового сознания «сущес-
твует в языковом пространстве – в общении, в стереотипах поведения, зафикси-
рованных в языке, в значениях языковых единиц и смыслах текстов» (Карасик
2002: 8). Таким образом, в условиях общения языковая личность может быть
изучена как коммуникативная личность, которая представляет собой «обоб-
щенный образ носителя культурноQязыковых и коммуникативно-деятельност-
ных ценностей, знаний, установок и поведенческих реакций» (Там же).
Исследование модели языковой личности в вербальноQсемантическом и
когнитивном аспекте предполагает анализ лексикона определенной социаль-
но ограниченной группы, то есть жаргона, сленга.
С одной стороны, такой подход базируется на представлении о языке как
о основном средстве экспликации элементов концептуальной картины мира,
что получает отражение в языковой, или «наивной», картине мира (Апресян
1995). При этом исследователи не исключают возможности существования
большего количества таких картин. В частности, принципиально противо-
поставлены картина мира взрослого человека и ребенка, национальная кар-
тина и картины отдельных стратов (Постовалова 1988: 32). С другой сторо-
ны, одним из возможных подходов к изучению различных типов языковой
личности может быть выделение релевантных признаков модельной личнос-
ти, т. е. типичного представителя определенной этносоциальной группы, уз-
наваемого по специфическим характеристикам вербального и невербального
поведения и выводимой ценностной ориентации. Исследователей в данном
случае интересует «спецификаличностей, которые становятся образцами для
соответствующих моделей поведения, накладывает значительный отпечаток
на исполнение таких ролей и позволяет выделять в рамках той или иной лин-
гвокультуры именно модельную личность» (Карасик 2002: 112).
Особую роль в составе лексикона социальной группы, жаргона, играет
метафора, которая в последние десятилетия рассматривается не только как
средство номинации, но и как вербализованный способ мышления (Арутю-
нова 1999; Балашова 1998; Гак 1988; Телия 1988).
Если рассмотреть метафорическую составляющую ученического жарго-
на в XIX в. и XX в., то можно выявить как общее, так и различное в составе
метафор, в источниках метафоризации, в формируемых на этой основе кар-
тинах мира школьников XIX в. и XX в.
Весьма показательной является характеристика лиц, которые получа-
ют метафорическое обозначение. Так, в обоих жаргонах крайне скудно пред-
ставлены именования членов семьи (например, ‘родители’: в XIX в. – предки,
в XX в. – кости, черепа, шнурки). Основное внимание уделяется экспрессив-
ной и оценочной характеристике лиц, окружающих их школе.
Регулярно в обоих вариантах жаргона именуется учебный персонал. В
частности, дается оценочная (преимущественно отрицательная) характерис-
тика руководства учебного заведения, нерасчлененная номинация учителей
и воспитателей (XIX в.: амфибия, бабушка, зверь, локомотив, синий пастух,
царедворец; XX в.: бабуля, батискаф, валенки, Борман, хозяин, гестаповна,
Али баба и сорок разбойников, валенки, зверь, гусь, пастух, жандарм, тигра,
скрипка). При этом если в XIX в. метафорические именования преподавател
ейQпредметников и самих предметов представлены единичными примерами
(математика – анафематика, латынь – тараканиус, кормилица – логика), то
в ХХ в. такого рода именования очень распространены (биологии – амеба,
биолошадь, зверь, пестик, самец, семядоля, сурепка, тычинка, хромосома; ис-
тории – истеричка; географии – глобус, Я бродил среди скал, я Европу искал;
химии – мензурка, молекула, пробирка, селитра; безопасности жизнедеятель-
ности – о Боже!; гражданской обороны – гроб; пения – Баян Баяныч; матема-
тики – мистер Икс; физкультуры – козел опущения, хип'хоп; военнойподго-
товки – воевода).
Однако самой продуктивной как в XIX, так и в XX в. становится метафо-
рическая номинация сверстников. Регулярно в обоих вариантах жаргона уча-
щийся именуется по своей успеваемости (ср.: ‘старательный ученик, отлич-
ник’ – XIX в.: медальон, зубрила, сливки; XX в.: борода, барабанщик революции,
ботаник, букварь, белеет парус одинокий, синоптик, череп, патриот, комму-
нист; ‘отстающий ученик’ – XIX в.: бородач, камчадал, корова, омега, поше-
хонец, чужестранка; XX в.: букварь, герой нашего времени, хвостнун, чеснок,
ягель). Показательно, отстающие ученики стабильно оцениваются отрица-
тельно (реже – нейтрально), поскольку плохая успеваемость – свидетельство
интеллектуальной неполноценности; прилежные же ученики в XIX в. чаще
оцениваются нейтрально или положительно, тогда как в ХХ в. преобладает
отрицательная оценка.
В то же время жаргон XIX в. в большей мере отражает кастовость ми-
роощущения учащихся. Так, в ХХ в. в основном представлены обобщенные
номинации школы и учеников (зона, казенка, бурса, бурсаки), номинации по
месту обучения: в основном профтехучилище (букашка, гуж, гужатник, ин-
теллигент, Кембридж, терем, фазанка), а также отдельные наименования –
сельхозтехникума (морковкина академия), спецшколы для трудновоспитуе-
мых (зоопарк), гимназии – говназия. В XIX в. подобные именования значи-
тельно разнообразнее (ср.: гимназисты – говядина, вареная / синяя говядина,
грач; семинаристы – богаделенка, юнкера – звери).
Чрезвычайно разнообразны в XIX в. номинации учеников отдельных
классов (младшеклассники – блохи, дикарь, дичь, звери, кишата, корявый, ко-
зерог, кофейные, кофулька, мохнатый, пшик, фараон; старшеклассники – дядь-
ка, покрытый мхом, старик, старичок).
Четкое деление на «своих» и «чужих» отражено в номинации чужест-
ранка ‘второгодница; ученица, переведшаяся из другого класса’. Дифферен-
цирует школьный жаргон XIX в. и социальный статус воспитанников (ср.:
блинник ‘избалованный, изнеженный городской семинарист, проживающий
в семье, а не в интернате’, снятое молоко ‘воспитанницы институтов благо-
родных девиц из семей интеллигенции, мелкого купечества’).
Закрытый (часто интернатский)характер учебных заведений XIX в.
отражен в большем по сравнению с ХХ в. внимании к отдельным группам
учеников, к отношениям между ними. Например, регулярно получают пре-
зрительные характеристики дети, страдающие энурезом (мореплаватель,
рыбак, рыбацкая слобода). Особого внимания в закрытых мужских заведе-
ниях (семинарии, кадетские и юнкерские училища) заслуживают привле-
кательные, хорошенькие мальчики (амурчики, девочки, матрешки). По той
же причине в XIX в. мужских закрытых учебных заведениях царит дух на-
силия.
Безусловно, в ХХ в. агрессивность мальчиков по отношению друг к другу
не меньше (для выражения значений ‘избивать’, ‘драться’ ученики исполь-
зуют лексемы из общего молодежного жаргона – месить, мочить, накидать,
отколбасить, прессовать, шинковать и др.), но в XIX в. такого рода отноше-
ния приобретают почти ритуальный характер (ср. современный военный
жаргон с развернутой системой наименования издевательств «стариков» над
«салагами», формируется целая парадигма метафорических наименований
со значением ‘издеваться над слабым, новичком’, (ср.: дать грушу ‘ударить
большим пальцем по макушке’, угостить кокосами ‘ударить по голове’, сде-
лать из лица лимон / мопса ‘схватив лицо руками, больно щипать его’, ковы-
рять масло ‘ударять по голове ногтем большого пальца’, масло жать / давить
‘гурьбой прижимать выбранную жертву к стене’, набрюшник ‘удар в живот’,
загнуть салазки ‘прогибать лежащего на земле’ и др.).
Конфликтный тип отношений отмечается и в отношениях учеников с
преподавателями, причем в XIX в. особое внимание уделяется разнообразным
формам публичных наказаний. В мужских учебных заведениях это в основ-
ном порка, трепка за волосы, удары линейкой по рукам (выдать горячих бли-
нов / румяна для щек, водить в канцелярию, рябчика съесть, березовая каша, бе-
резовый чай), наказание голодом (букет), пересаживание на последнюю парту
(сослать на Камчатку / на Сахалин / на Кавказ); в женских институтах – пуб-
личное выведение ученицы из коллектива, наказание голодом и неподвиж-
ностью (факельщик, столпники божии). Особого внимания удостоен журнал,
где фиксировались все нарушения дисциплины (голубиная книга, книга живо-
та, скрижаль Иуды).
В ХХ в. такие номинации, естественно, не сохраняются. Однако общим
для учеников остается конфликтный характер отношений с учениками. Это
четко прослеживается в номинации преподавательского состава (ср.: серпен-
тарий, осиное гнездо), также в метафорических наименованиях воспитатель-
ного процесса (ср.: мозгобойка ‘родительское собрание’, гестапо ‘кабинет ди-
ректора в школе’, аракчеев ‘классный руководитель’).
Безусловно, в центре внимания учащихся XIX и XX вв. оказывается и
сам процесс обучения. Это отражено в частотности номинаций не только
учеников по их успеваемости, но и наименований оценок, как правило, не-
удовлетворительных (ср.: в XIX в. – журавль, дубина, кол, лебедь; в XX в. –
бабан, гусь, напильник, параша, паяльник, утка), шпаргалок (XIX в. – анти-
плешь, говорящие программы, разведение клопов; ХХ в. – шпага, шпора, бом-
ба, гармошка, второе дыхание). Весьма показательно, что как в XIX, так и
в XX в. прослеживается явно отрицательное отношение к самому процессу
обучения. Если в XIX в. это связано, прежде всего, с необходимостью без-
думно заучивать огромные тексты, то в ХХ в. в метафорических наимено-
ваниях выражено отношение к той информации, которую приходится запо-
минать (ср.: ‘учить / выучить уроки’ – в XIX в.: зубрить, жарить / зубрить
в долбяшку, скоблить, ярить; ХХ в.: заниматься онанизмом головного мозга,
ботанеть, букварить, терзать букварь, репиться, грызть кочерыжку науки,
мозги массировать).
Характерно, что регулярно в обоих вариантах жаргона именуются раз-
личного рода коммуникативные неудачи, связанные с процессом обучения –
неготовность к уроку, провалы на уроке, экзамене, хотя в XIX в. они более
разнообразны (в XIX в.: говорить от ветра/ от чрева, кабалиться, волочься,
изрезать в клочки, надраться, наплешиться, получить плешь, ссыпаться, сре-
заться; в ХХ в.: завалиться, засыпаться, срезаться).
Зато в ХХ веке более разнообразны номинации списывания и прогулов:
‘списывать’ – сдуть, скатать, фотографировать; ‘прогуливать урок, сбегать с
уроков’ – гасить, гуляш по коридору, двигануть, пал смертью храбрых, давать
ускорение. Показательны также метафорические наименования школы ХХ
в. (зона, казенка, говназия), класса (загон, амбар), библиотеки (блевотека).
Впрочем, подобные номинации, хотя и реже, есть и в XIX в. (‘списывать’ –
разводить клопов, удить; ‘сбегать с уроков’ – казенничать, спасаться).
Общее и различное можно обнаружить при анализе источников метафо-
ризации. Так, регулярно в обоих вариантах жаргона используются артефак-
ты, зоонимы, флористическая лексика, антропонимы, социальная лексика.
Общим является то, что достаточно регулярно модулем сравнения при этом
становятся внешние признаки одушевленного или неодушевленного объекта,
процесса, например, форма и положение предмета (ср. номинацию неудов-
летворительных оценок (единица и двойка) в XIX в. – журавль, дубина, кол,
лебедь; в XX в. – банан, гусь, напильник, утка), кинетические характеристики
или их сочетание (ср. в XIX в.: горчичник ‘удар в спину’, факельщик ‘провинив-
шаяся ученица, идущая впереди строя в столовую и сгорающая от стыда’; в
ХХ в.: гармошка ‘шпаргалка, которая складывается подобно гармошке’).
Можно выделить общие тенденции в метафоризации отдельных семан-
тических групп. Например, при номинации учителей и учеников с помощью
зоонимов основой для метафоризации регулярно становится противопостав-
ление человека животному в целом (ср.: в XIX дичь, звери ‘ученики младших
классов’), противопоставление хищника и его жертвы (ср. в: XIX и ХХ вв.:
звери ‘преподаватели’).
Различия жаргона XIX и ХХ вв. в принципе формирования переносных
значений отдельных групп, а также в степени продуктивности отдельных
пластов лексики в роли источника метафоризации.
Например, в XIX в. очень продуктивной является символика цвета (ср.:
кофейные, кофульки, кофушки ‘воспитанницы младшего класса, одетые в пла-
тья кофейного цвета’; мыши ‘пепиньерки (бывшие воспитанницы института
благородных девиц, оставшиеся в институте для педагогической деятельнос-
ти), одетые в серые форменные платья’).
В ХХ в. одной из самых продуктивных в школьном жаргоне, как и в мо-
лодежном жаргоне в целом, становится так называемая внешняя, «звуковая»
метафора (см., например: (Москвин 2006: 130)), где термин «метафора» от-
несен к плану выражения слова (Любимов, Пинежанинова, Сомова 1996).
Звуковая мимикрия обычно воспринимается как языковая игра (ср.: блево-
тека ‘библиотека’, говназия ‘гимназия’, о боже! ‘урок ОБЖ’, бирюга, дирюж-
ник ‘директор’, педик ‘педагог’, репка ‘репетитор’, сырник ‘учитель по имени
Сергей Николаевич’, вермишель ‘учительница по имени Вера Михайловна’,
горилла ‘учитель с отчеством Гаврилович’). Очень характерным для ХХ в. ста-
новится совмещение метафоры с метонимией и синекдохой (ср. номинацию
учителейQпредметников: русского языка – точка, точка, запятая, биологии –
пестик, тычина, хромосома; математики – мистер Икс, биссектриса; химии –
пробирка; пения – Баян Баяныч).
Безусловно, наиболее заметные отличия в мотивации переносных зна-
чений обнаруживаются в использовании социальной и культурной составля-
ющей лексикоQсемантической системы языка. Так, спецификой жаргона XIX
в. является регулярное использование грецизмов, латинизмов, романизмов,
церковнославянизмов, а также ассоциаций, связанных со знанием по таким
дисциплинам, как древнегреческий, латинский, церковнославянский языки,
античная литература, закон Божий.
Например: амурчик ‘ученик с приятной внешностью’ (по имени древне-
греческого бога любви); муар'aнтик ‘тонкий кусок жилистой говядины’ (от
франц. moire ‘тонкая переливающаяся шелковая ткань’); сидеть в омеге ‘зани-
мать последнюю парту’ (омега ‘последняя буква греческого алфавита’); кни-
га живота (ц.Qсл. жизни) и скрижаль Иуды (скрижаль греч. ‘доска, таблица
с написанным на ней текстом (преимущественно священным, культовым)
‘кондуит’ (ироническая ассоциация записей проступков школьников с биб-
лейскими сказаниями, источником которых часто становились доносы това-
рищей – Иуд); тараканиус ‘прозвище учителя латинского языка’ (финаль ус
ассоциируется не только с растительностью на лице, но и типичными латин-
скими финалями); столпники божии ‘ученицы, в наказание стоявшие за сто-
лом во время обеда’ (от столпник ‘религиозный фанатик, отшельник, молив-
шийся, стоя неподвижно на небольшом столпе’).
Из социально мотивированной метафоры жаргона XIX в. можно отме-
тить регулярную ассоциацию пересаживания на заднюю парту отстающих и
провинившихся учеников с распространеннымив то время правовыми нака-
заниями – ссылкой осужденных на Дальний Восток (сослать на Камчатку /
на Сахалин) или в действующую армию в «горячую точку» XIX в. (сослать
на Кавказ).
В ХХ в. социальная и культурная составляющая в большей степени свя-
зана с историей России ХХ в., прежде всего, это реалии советской истории
советского образа жизни (советские идиологемы) и Великая Отечественная
война против фашистской Германии (ср.: Маркс, патриот, коммунист, Пав-
лик Морозов, барабанщик революции, Борман, Мюллер, бухенвальдский набат,
гестапо). Регулярно школьники ХХ в. используют лексемы и сочетания, свя-
занные с историей России и классической русской литературой, детской ска-
зочной литературой (ср.: воевода, аракчеев, дворянское гнездо, герой нашего
времени, Али'баба и сорок разбойников). Используется в ХХ в. и лексика, свя-
занная с образованием как в России, так и в Западной Европе (ср.: букварь,
букварить, Кембридж).
Отличительная особенность использования идиологем и культуроло-
гем – характеристика с их помощью мира «чужих», «своего» бедственно-
го положения мире «чужих» или языковая игра, построенная на парадок-
се. Так, учителя ассоциируются с привилегированными слоями населения,
карательными органами, разбойниками, знаковыми фигурами коммунисти-
ческой пропаганды, жестокими правителями царской России или фашист-
ской Германии. Показательно, что в эту же позицию занимают и родители
(дворянское гнездо ‘учительская’, аракчеев ‘классный руководитель’, Марксы,
начальство ‘родители’, гестапо ‘кабинет директора в школе’, Мюллер ‘дирек-
тор школы’, Борман ‘заместитель директора школы по воспитательной ра-
боте’, Али баба и сорок разбойников ‘директор и учителя’, зона ‘школа’, бу-
хенвальдский набат ‘звонок на урок’, светлый путь ‘дорога из школы’). Тем
самым сами школьники воспринимают себя бесправными жертвами в бес-
правном мире взрослых. Примечательно, что в сферу «чужых» (с точки зре-
ния одноклассников) попадают и прилежные ученики, которые ассоцииру-
ются с представителями «чуждой» Советской власти и морали (коммунисты,
патриот, Павлик Морозов).
Следует отметить, что метафоры с использованием идеологем и культу-
рологем могут быть построены на парадоксе и восприниматься как языковая
игра (герой нашего времени ‘двоечник’, Кембридж ‘ПТУ’). Конечно, детский
мир оптимистичен по своей сути. Поэтому иронический и шутливый оттенок
содержится и при номинации мира «взрослых».
Однако в целом, картина мира школьника XIXQХХ вв. отражает негатив-
ное отношение к школе, конфликтный характер отношений с миром взрос-
лых, причем в ХХ в., несмотря на либерализацию обучения, данная тенден-
ция проявляется не менее последовательно.
Все это позволяет охарактеризовать языковую личность школьника XIX
и ХХ вв. как личность, негативно настроенную как по отношению к процессу
обучения, так и по отношению к школе как социальному институту. «Тиней-
джер», автор и носитель жаргона, противопоставляет свой мир миру взрос-
лых, к которому, безусловно, отнесен весь преподавательский коллектив. Ос-
новной функцией такого коллектива, с точки зрения школьника, является
не обучающая, воспитательная, а карательная функция. Вместе с тем анализ
школьного жаргона явно свидетельствует о творческом потенциале его но-
сителей, о достаточно высоком уровне эрудиции, о чувстве языка и умении
включаться в языковую игру.
Конечно, метафорическая составляющая школьного жаргона не отража-
ет абсолютно точно действительную картину мира его носителей. Это, ско-
рее, «кривое зеркало», «увеличительное стекло», которое, тем не менее, поз-
воляет выявить принципиально значимые характеристики языковой лич-
ности подростка XIX и ХХ вв.
Библиография
Анищенко О. А. Словарь русского школьного жаргона XIX века. М., 2007.
Апресян Ю. Д. Избранные труды: В 2 т. Т. 2. М., 1995.
Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М., 1999.
Балашова Л. В. Метафора в диахронии (на материале русского языка XI – XX веков).
Саратов, 1998.
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
Вальтер Х., Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Толковый словарь школьного и студен-
ческого жаргона. М., 2005.
Гак В. Г. Метафора: универсальное и специфическое // Метафора в языке и тексте.
М., 1988.
Грачев М. А. Словарь современного молодежного жаргона. М., 2006.
Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград, 2002.
12
Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987.
Левикова С. И. Большой словарь молодежного сленга. М., 2003.
Леонтьев А. А. Основы психолингвистики. М., 1997.
Любимова Н. А., Пинежанинова Н. П., Сомова Е. Г. Звуковая метафора в поэтическом тексте. СПб., 1996.
Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Большой словарь русского жаргона. СПб., 2001.
Москвин В. П. Стилистика русского языка: Теоретический курс. Ростов н/Д, 2006.
Никитина Т. Г. Молодежный сленг: Толковый словарь. М., 2004.
Постовалова В. И. Картина мира в жизнедеятельности человека // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. М., 1988.
Телия В. Н. Метафоризация и ее роль в создании языковой картины мира // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. М., 1988.
@темы: статьи, вопрос, творчество, Чарская, "Ради семьи"



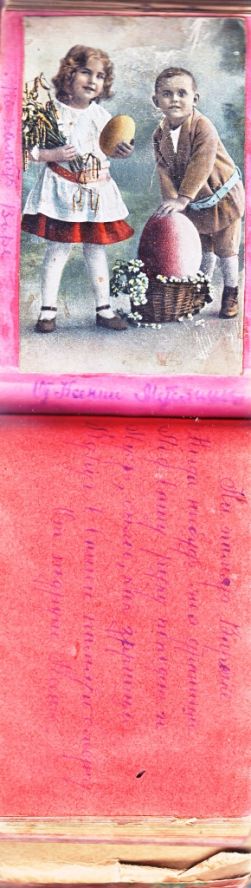












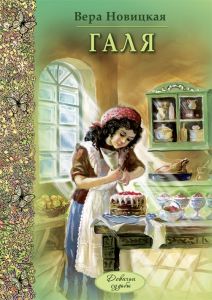
 Да и третья с четвертой части тетралогии про Мусю Старобельскую ("Безмятежные годы") на подходе...
Да и третья с четвертой части тетралогии про Мусю Старобельскую ("Безмятежные годы") на подходе...