
Содержание:
читать дальше
Резюме: переиздали старое. Ну Фигнер раньше в сборники не включали, но она в интернетах давно есть.


 соответственно, вопрос: кто-нибудь знает что-то об этой повести? Автор, время издания, сюжет? Telwen не подскажешь
соответственно, вопрос: кто-нибудь знает что-то об этой повести? Автор, время издания, сюжет? Telwen не подскажешь 

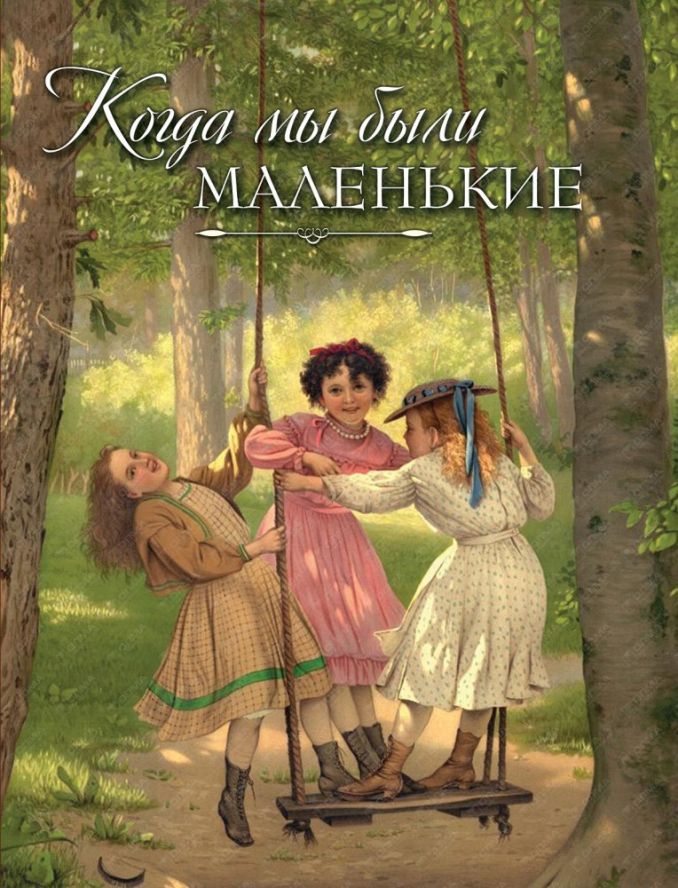



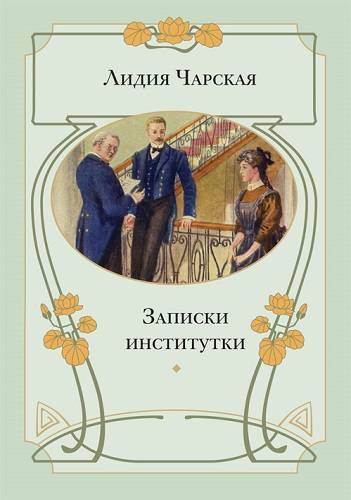

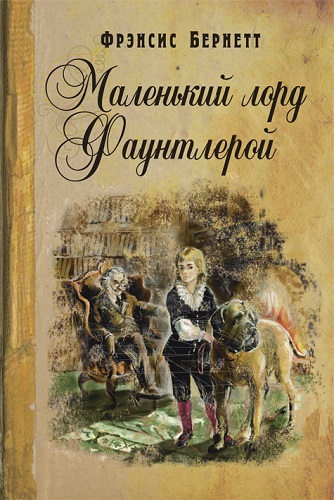



 . Все они написаны уже не про школьниц-институток и не про потерявшихся детей, благодаря чему вполне могут быть интересны более взрослой аудитории, людям, которые относятся с уважением к царской династии и искренним, открытым чувствам.
. Все они написаны уже не про школьниц-институток и не про потерявшихся детей, благодаря чему вполне могут быть интересны более взрослой аудитории, людям, которые относятся с уважением к царской династии и искренним, открытым чувствам.