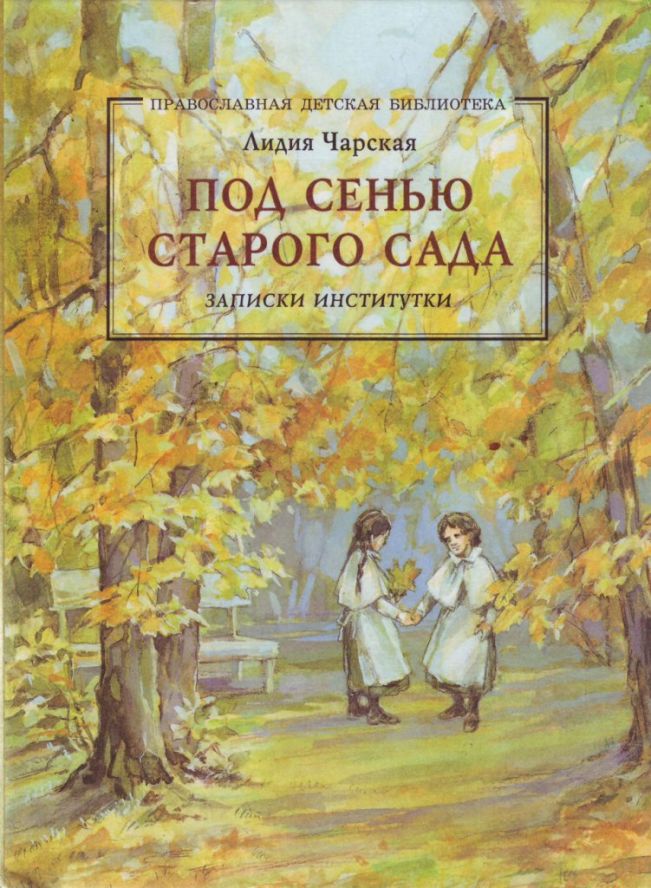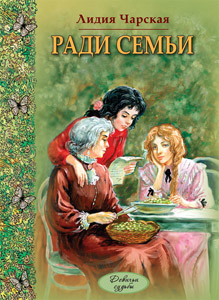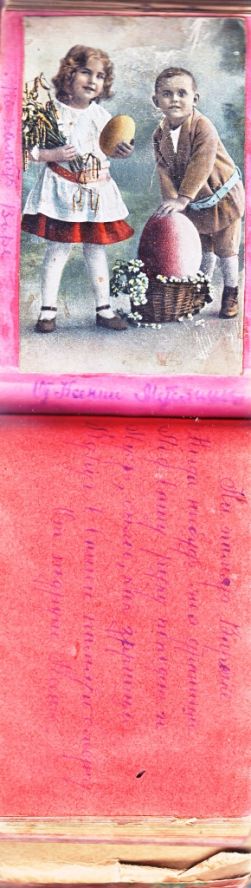В. Комарницкий
Л. А. Чарская, как детская писательница
Доклад, читанный на Варшавской выставке образовательных пособий и книг для детей дошкольного и школьного возраста в апреле 1913 года.
Л. А. Чарская, как детская писательница
Доклад, читанный на Варшавской выставке образовательных пособий и книг для детей дошкольного и школьного возраста в апреле 1913 года.
Я поставил себе задачей предложить благосклонному вниманию слушателей несколько посильных соображений о самой популярной современной детской писательнице, которая заинтересовала весьма значительный круг юных читателей, которая сумела в течение каких-нибудь 10 лет совершенно заполонить сердца девочек и девиц и которая привлекла к себе серьезное внимание и семьи, и школы, и печати.
Факт огромной популярности писательницы в нашей семье и в нашей средней школе — явление само по себе замечательное. Это обстоятельство вынуждает нас соединить анализ литературного дарования Чарской с анализом причин, несомненного тяготения детей к этому певцу институтской жизни, причин, которые могут оказаться небезынтересными показателями настроения современной семьи и переживаний детской души, главным образом, девочек.читать дальше
Быть может, при такой постановке вопроса мы найдем ту точку зрения, которая даст нам возможность ближе подойти к выяснению двух вопросов: с одной стороны — вопроса, за что дети любят Чарскую, и с другой стороны — вопроса, каково должно быть отношение воспитателей к этой владычице детских сердец.
За десять лет литературной деятельности Чарская выпустила в свет свыше семидесяти больших произведений, если не считать мелких очерков и небольших рассказов. Тут и повести из институтской жизни; тут и повести из кавказского быта; тут и сказки и сборник кавказских песен и преданий; тут и большие исторические повести и рассказы из истории для маленьких читателей; тут и повести из жизни мальчиков, из жизни бедных детей улицы, и веселые рассказы для малюток; тут и большая повесть из жизни сестер милосердия, и жизнеописание святого Сергия Радонежского, и прочее. Найдем мы у Чарской и юмористические произведения и произведения с юмористическими эпизодами. Кроме повестей, рассказов и исторических книг, Чарская выпустила и две книги стихов для старшего и для младшего возраста. Для простоты дела все произведения Чарской можно было бы разбить на три ярко выраженные группы: психологические, бытовые (преимущественно из школьного быта) и исторические произведения.
Еще Белинский сказал, что детским писателем нельзя сделаться: им надо родиться. Таким детским писателем и родилась Чарская. Успех её и увлекательный интерес её рассказов объясняется счастливым сочетанием знания запросов юного читателя и несомненного таланта метко наблюдать, образно и правдиво изображать жизнь. Чарской увлекаются не только у нас в России; ею зачитываются чехи; ее стали переводить для немецких детских журналов. Я слышал мнение, что первым русским детским писателем-художником следует признать Гоголя, так как некоторые его произведения как нельзя лучше соответствуют запросам психологии юного читателя. В этом мнении есть много справедливого.
Согласно отчету комиссии при Московском обществе распространения технических знаний, доложенному на съезде по библиотечному делу в 1911 году, в учебных заведениях дети среднего возраста (9 — 12 лет) читают более всего Гоголя 34%, затем Пушкина 23%, Чарскую 21%, Твена 18%, Тургенева 12%.
Наибольший интерес детей среднего возраста к Гоголю и Чарской (как ни кажется странным на первый взгляд мое сопоставление этих двух имен) — явление, по моему мнению, не случайное.
В повестях Гоголя, известных под общим именем «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и «Миргорода», которыми дети больше всего интересуются, мы находим, как известно, черты романтизма и реализма. Не то ли мы находим у Чарской, хотя и в иных формах и оттенках.
Героический романтизм, главным образом исторического вида, ярко выражен в некоторых повестях Чарской. В «Газавате» изображается героическая борьба; эта борьба представляется трогательной и теплой; каждый читающий невольно переживает все тревоги и все надежды каждого из героев. «Грозная дружина» вызывает симпатию ко всем храбрым, любящим свою родину, свободу.
Но более всего тут надо иметь в виду сборник «Смелые, сильные и храбрые», состоящий из трех повестей, — особенно второй повести «Под звон вечевого колокола» (Марфа Посадница).
«Марфа провожает Димитрия в поход, и Димитрий глядит в глаза матери, глядит не отрываясь. Сейчас их только двое на всей огромной площади, во всем большом мире. Мать и сын. Сын и мать, живущие одним чувством, одной великой, всеобъемлющей, всеподавляющей любовью к родине, к родимой Новгородской воле, которой грозит опасность.
«Господь с тобой! Прощай, Митя! Только помни, что бы ни было, лучше смерть, нежели мысль единая о передаче Москве господина нашего Великого Новгорода».
Мы часто встречаем у Чарской видения, сны, прорицания, гипноз, преступления, цыган, разбойников и владетелей цирка, мучащих несчастного ребенка.
В грозу и бурю дети убегают то из родительского дома, то из института, то из табора.
В повести «Сибирочка» князь, чтобы не расставаться с любимой дочерью, везет ее, годового ребенка, зимою в Сибирь и, когда на них нападают волки, привешивает ее к дереву и уезжает, рассчитывая, в случае своего спасения, вернуться на следующее утро.
В «Джаваховском гнезде» загипнотизированная институтка убегает с прорицательницей; последняя собирается выдать пятнадцатилетнюю девочку замуж и стреляет в нее, когда ее настигают.
В повести «За что?» девочка, чтобы отомстить отцу за то, что он женился, бегает босиком по снегу; ей является видение «серая женщина», которая возвещает ей, что она должна жить.
Профессор F.Mentré в журнале L’Education (1910) в статье «Воспитательная ценность жизни великих людей», («La valeur educative de la vie grands hommes»), говорит, что дети рождаются с задатками «героизма» в своей душе.
«Все составные элементы героизма не есть что-то сверхъестественное и недосягаемое для каждого человеческого индивида; каждый из нас чувствует их в далекой глубине своей души».
Отсюда возникает для воспитателя обязанность культивировать в детях высокие нравственные качества, присущие героизму, тем более, что отклики героизма всегда можно найти в детской душе.
Отсюда все героическое полно притягательных черт для детского возраста, испытывающего особенную потребность во всем сказочном, величественном и героическом. Героическое затрагивает не только интеллект и воображение, но и волю и сердце, вызывая жажду подвигов, желание стать выше серенькой действительности и развивая вдумчивость. Эта потребность детской психики великолепно угадана Чарской.
Угадав стремление юного читателя к романтическому, наша популярная писательница пошла навстречу и другому запросу юного читателя. Дети не любят морализирования, не любят явно навязываемой им тенденции и требуют реального изображения действительности. Эта потребность учащегося читателя, т. е. ученика и ученицы средней школы и среднего достатка, удовлетворяется Чарской как нельзя лучше.
Темы взяты из действительной жизни, которая представлена вполне реально.
Институтская жизнь, классная жизнь, классные дамы, первые подруги, ученицы, первые впечатления, горе и радости учащихся, бедная жизнь детей улицы, черты кавказского быта, шалости, проделки учащихся, — все это взято из окружающей и хорошо нам известной жизни.
Реализм Чарской сказался и в характере речи её самой и речи действующих лиц Иностранные слова не сходят с её страниц — дортуары, медамочки, парфеточки, мовешки, пепиньерки и т. и.
В «Юркином хуторе» мы читаем:
1) «ай, ай — не можно ошибайт папахену», говорит гувернер немец;
2) при виде попугая Митька спрашивает: «Из каких же они будут; человеки или пташки? А можа из хранцузов?».
3) Митька говорит: «Неужто эфто мы ложками хлебать станем; хватая его грязными пальченками» — удивляется, что «никак не уколупаешь его».
Такое стремление к грубому реализму в речи несколько коробит читателя, который жалеет о том, что Чарская, приближаясь к грубым наклонностям (тут я имею в виду любовь некоторых детей к оригинальным необычным выражениям), но всегда заботится об изяществе речи и чистоте языка. А это обстоятельство для юного учащегося читателя, который учится языку, далеко не безразлично. Кстати сказать, учитель русского языка не может обойти молчанием и того, что издатели Чарской не особенно заботятся о соблюдении общепринятой орфографии, чем между прочим оказывают учащимся медвежью услугу: в зрительной памяти фиксируются неправильные начертания.
Плодовитость Чарской мешает ей обрабатывать в надлежащей мере язык и слог своих произведений; эта досадная небрежность умаляет значение её произведений
А между тем Чарская могла бы писать великолепным языком.
Для образца изящного и музыкального стиля Чарской приведу начало повести «3а что?» — «О чем шептали старые сосны».
«Синим сапфиром горело небо над зеленой рощей. Золотые иглы солнечных лучей пронзали и пышную листву берез, и бархатистую хвою сосен, и серебряные листья стройных молоденьких тополей. Ветер рябил изумрудную зелень, и шопот рощи разносился далеко, далеко...
Старые сосны шептали: Мы знаем славную сказку!
Им вторили кудрявые, белоствольные березы: И мы, и мы знаем сказку!
— Не сказку, а быль! Быль мы знаем! — звенели серебряными листьями молодые гибкие тополя.
— Правдивую быль, прекрасную как сказка! Правдивую быль расскажем мы вам, — зашептали и сосны, и березы и тополя разом.
Какая-то птичка чирикнула в кустах:
— Быль! Быль! Быль расскажут вам старые сосны. Слушайте их»!
Подводя итог всему кратко сказанному, я полагал бы, что литературное дарование Чарской характеризуется, во-первых, соединением романтического и реалистического, и во-вторых, музыкальными и эмоциональными ритмами в речи; встречающимися, к сожалению, только в некоторых повестях и только в некоторых местах. Эта музыкальность и эмоциональность ритмических периодов, напоминающая нам прозу Гоголя, также манит к себе юную читательницу.
Как же использовала Чарская свой талант?
Чему учит и что внушает она юным сердцам? Какую окраску она придает героическому в детской душе? Как отнеслась она к реальному, взятому из школьного быта? Каким интересам детей она пошла навстречу, и как реагирует на детские запросы.
Поищем у Чарской ответов на эти вопросы.
Любовь девочек к родителям у Чарской выражается в том, что они или тоскуют по родителям или гордятся в своих родителях чином, положением, происхождением отца, красотой его, красотой матери.
В повести «За что?» мы читаем: «Я с гордым торжеством оглядывала соседние скамьи, на которых сидят во время приема девочки с их посетителями родственниками и родными. Нет, скажите по совести, найдется ли другой такой же красивый отец? — допытывает мой торжествующий взгляд, и я, сломя голову, несусь к нему навстречу».
Матери пишут детям восторженные письма и посылают им поцелуи. Тесного общения и идеальной любви родителей и детей мы у Чарской не находим.
Элементом героическим Чарская пользуется особенным образом.
Девочки Чарской считают себя героинями: они или поют себе хвалебные гимны или выслушивают их от других:
«Необыкновенный ребенок», — прошептали все четыре тетки разом.
«Что за прелестное дитя!» — сказал кто-то.
«Красавица она у нас на диво».
«Лидуша — наш божок».
«Charmant enfant!».
«И какая хорошенькая!».
С девятилетнего возраста у героини целая толпа «рыцарей»-мальчиков.
«Смотрите, медамочки, какие у неё поразительные глаза: точь-в-точь, как у Марии Антуанетты.
Она считает себя существом необыкновенным: «Я принцесса, принцесса из тетиной сказки», «во всех моих играх я или принцесса или царевна. Ничем иным я не могу и не желаю быть».
Все эти сцены взяты из жизни.
Тип барышни, изящно одетой и слышащей и от знакомых и от посторонних: «какая хорошенькая» и высоко мнящей о себе, нам хорошо известен. Если же девица из богатой или хорошей семьи, если она или играла на сцене, или выступала в концерте, то героиня романа готова; она следит за отношением к себе, любуется каждым своим поступком, жестом, словом и требует себе поклонения.
При таких условиях развивается то болезненное самолюбие, то необычайное, ни на чем не основанное самомнение, та погоня за эгоистическим счастьем, которые мы нередко встречаем у современных девушек при бедности их духовных запросов.
Если бы Чарская нам, взрослым читателям, указывала на то, что в современной заурядной девушке можно отметить, как типическое явление, «на рубль амбиции и на грош амуниции», это было бы понятно. Но когда Чарская явно культивирует в девочках привычку любоваться собою, идя навстречу дурным инстинктам женской психики, мы заподазриваем талантливую писательницу в стремлении к дешевой популярности и в приспособлении к грубым вкусам массового читателя. Вместо того, чтобы поднимать и возвышать юного читателя, Чарская точно ему льстит.
Явление, интересное для взрослого, как предмет объективного исследования, может оказаться соблазнительным и заманчивым для юнца, как предмет подражания.
Когда читаем Чарскую, больно становится за Тургенева, который завещал русским девушкам иные идеалы: идеалы героизма, да, но героизма, скромного и смиренного.
Обратимся к другим мотивам у Чарской: любви к подругам и дружбе.
«Мы, младшие, обожаем старших. Это уже так принято у нас в институте. Каждая из младших выбирает себе «душку», подходит к ней здороваться по утрам, гуляет по праздникам с ней по зале, угощает конфетками и знакомит со своими родными во время приема, когда допускают родных на свидание. Вензель «душки» вырезывается перочинным ножиком на пюпитре, а некоторые выцарапывают его булавкой на руке или пишут чернилами её номер.
Для «душки», чтобы быть достойной ходить с нею, нужно сделать что-нибудь особенное, совершить, например, какой-нибудь подвиг, или сбегать ночью на церковную паперть, или съесть большой кусок мела — да мало ли чем можно проявить свою стойкость и смелость («Записки институтки»).
Дружба тоже проявляется своеобразно. При дружбе обязательна ревность; подруги не должны проявлять особенной любви к «посторонним девочкам»; малейшего подозрения в измене достаточно, чтобы дружба прекратилась. («Княжна Джаваха»). «Каково же было изумление, негодование, когда я увидела моего единственного друга между моими злейшими врагами!».
Институтки делятся на две группы: парфеток и мовешек; мовешки беспрекословно несут иго парфеток, которые кичатся своим именем и своим происхождением.
Скажите, ради Бога, что поучительного, что интересного в этой школьной летописи институтских нравов?
Раньше мы говорили, что близких отношений, тесного общения детей с родителями не замечается. Но, быть может, дети учащиеся ближе стоят к своим воспитателям, классным дамам, учителям?
В «Записках маленькой гимназистки» бонна грубо бранится с другими, заискивает перед барыней. Дети ведут постоянную борьбу с бонной и высмеивают ее, как только могут. Пятилетний мальчик так говорит: «Я узнал. Она говорит, что она из Баварии родом, а это не правда. Из Ревеля она... Ревельская килька... Вот кто мамзелька наша. Килька, а важничает; ха, ха, ха».
Девочки презирают весь педагогический персонал института, за исключением «maman», начальницы, всегда княгини или баронессы.
Классные дамы и учителя имеют свои прозвища и специальные наименования: «Синявки, Протоплазма, Цапля, Кочерга, Вампир, Пугач, Кис-Кис».
«Есть синие лягушки?» задорно спрашивает воспитанница классную даму так, что та «разом поняв выходку, вся зеленая от злости, шипит («Вторая Нина»).
По мнению Чарской, педагоги не умеют себя держать. Конечные цели их не осрамиться перед начальством, «не ударить лицом в грязь», потому что, как они сами откровенно признаются детям, иначе им «попадет».
В «Большом Джоне» учитель арифметики так объясняет девочкам, почему ему хотелось бы, чтоб они хорошо сдали экзамен.
«Пришел попросить Вас, девицы, начать готовиться к экзамену завтра же и поусерднее, так как на этот экзамен приглашен мною в качестве ассистента мой друг, один молодой ученый».
Речь некоторых учителей довольно странна. Учитель говорит ученицам выпускного класса: «Вот поговорите, так я на актовом насею вам единиц, что твою пшеницу».
Учитель географии говорит: «На место пошла, лентяйка, унывающая россиянка, вандалка непросвещенная.(«Княжна Джаваха»).
По мнению Чарской, в школе чрезвычайно ценится титул, происхождение девочек.
Только что привезенную в институт девочку начальница встречает словами: «Нам очень желательны дети героев; будь достойна твоего отца» («Записки институтки»).
Тон в изображении педагогов враждебный.
В повести «Большой Джон» описывается столкновение между классной дамой и воспитанницами: «Немка словно зашлась. Её лицо из красного стало багровым. Её голова с мокрыми косицами жидких волос ходила, как маятник под часами. Но вот губы её вытянулись вперед, желтые клочки зубов высунулись из них, и она захрапела: «В лазарет!».
Враждебность к педагогам сказывается и в их так называемой травле.
«Травить его! Бенефис ему хороший закатить, бенефис с подношением!» кричат девочки, когда учитель пришел не в свой час, а в свободный.
Травля состояла в том, что девочки поочередно жалуются, что в классе пахнет карболкой; при чем Чарская поясняет: «у учителя болели ноги, и он мазал их мазью с запахом карболки».
Во главе этого педагогического персонала стоит «maman», которая строга к педагогическому персоналу. Девочки слышат, как она делает выговор классной даме: «Вы распустили класс, они стали кадетами» («Записки институтки»). Педагоги так боятся «maman», что, по словам детей, «синявки подлизываются» к воспитанницам, которых она любит.
Гнусные проделки над учителями у Чарской описаны в смеющемся тоне, который вызывает восторг у читательниц, желание подражать, желание, посмеяться, но над кем? Над жалкими несчастными людьми-неудачниками.
Идя в некотором смысле по следам Гоголя в изображении романтического и реалистического, Чарская для реального взяла пошлую сторону современной школьной и детской жизни. Но будучи талантом второго порядка, она вместо гоголевского сострадания и обличения внесла развязность и легкомыслие.
Гоголь, обличая пошлость, проповедовал любовь к человеку, как человеку, и требовал уважения к человеческой личности. Этого нет у Чарской в её бытовых повестях. Она не обличает, а поет пошлые мелодии жизни; она воспевает ложный героизм.
Не Чарская, конечно, виновата в том, что в современной школе и в современных детях много пошлости и пошлых предрассудков, но она виновата в том, что она с этими предрассудками не только не борется, но и незаметно потакает им, совершенно забывая, что с детской восприимчивой душой надо особенно бережно обращаться, и забыв один из заветов Гоголя, который говорил, что в ранней молодости надо беречь идеальные порывы, потому что потом их не соберешь.
Вот почему надо согласиться со следующим отзывом Фриденберга о Чарской:
«Самоуслаждение, вот то психологическое состояние читательниц, на котором построен успех Чарской. Её произведения в целом, это какая-то ужасная, отвратительная насмешка, издевательство над человеческой личностью. Её произведения захватывают широко сферу детской жизни и дают не только забавную фабулу, но рассказывают также о переживаниях действующих лиц.
Только герои и героини её произведений постоянно обнаруживают уродливые наросты женской психики.
Мужчины же представлены, в большинстве случаев «золотою молодежью», которая рукоплещет всем этим особенностям девушек своими поощрениями и культивирует в них лживость, кокетство и легкомыслие.
Все идеальные, природные сокровища женского ума и сердца у героинь Чарской отсутствуют, ибо на них нет спроса; они обесценены в той среде, где приходится девочкам жить и развиваться.
Все отрицательные черты современной женщины в произведениях Чарской выступают в ярком привлекательном свете, преломляясь сквозь призму дутого, показного героизма.
Конечно, детей обмануть легко, и весь ужас таких произведений, как повести Чарской, в том, что они дают не подлинную жизнь, а её изнанку, истасканную, пошлую, но блестящую и манящую неопытный глаз.
Нет художественного проникновения в душу жизни, а только умелое фотографирование её поверхности и то не всей, а только темных уголков.
Обожание Чарской — только симптом, только грозный признак того, что наши дети на распутье».
Прося снисходительности за беглость и некоторую поверхностность обзора, я в конечном итоге резюмировал бы свои соображения следующим образом.
В лучшем случае, т. е. если допустить слабую податливость подростков предрассудкам и слабую их внушаемость, надо признать чтение произведений Чарской, касающихся школьного быта, бесполезным: читать занимательные книги только для развлечения, без пользы — в наше время пустая трата времени; жизнь наша коротка; время и силы ограничены; а наследство, оставленное нашим детям нашими корифеями, достаточно велико и слишком ценно, чтобы от него отвлекаться.
В худшем случае чтение Чарской вредно; опасность произведений Чарской, в которых она касается школьного быта и наклонностей подростков, заключается не только в том, что она пишет, но и в том, как она пишет.
Окружающая нас будничная жизнь не щадит детей: она не щадит ни их здоровья, ни их радостей, ни их раннего детства, ни их детского счастья. Жизнь стала тяжелой и пошлой; эта жизнь проникла в текущую литературу, это совершенно естественно и даже необходимо, но ей не может быть места в чтении для детей; литература, предназначенная для детей и юношества, и заигрывающая с дурными инстинктами, должна быть осуждена, как фактор, противоречащий условиям детского счастья и условиям нормального духовного развития.
Литература, назначенная для детей, должна их щадить; она должна возвыситься над пошлой обстановкой, тем более, что сейчас наши дети и юноши заблудились.
Пусть же детская литература скорее споет нашим детям иные песни, песни о светлой жизни и о любви к людям; пусть она напомнит о тех идеалах, которые уже давно воспеты, о тех идеалах, которые до сих пор сияют в великих творениях наших корифеев слова.
В общем видно что автор явно читал З.Масловскую. Хорошо пересказывает. Интересно читал ли он Чарскую?
@темы: текст, статьи, Чарская, Комарницкий







 "
"